Язык / Language:
Russian / Русский
English
Социальная история тела в шрамах: автоэтнография*
by AllaЯblood
tags: тело, СССР, протест, Россия, деколонизация
Аннотация: это интроспективное исследование пересечения телесности человеческого тела и его социального контекста. Эта короткая автоэтнография, творческое сочетание качественного исследования и документального творческого письма, рассматривает шрамы на теле как социальную историю, связывая личные и социальные аспекты. В истории насилия, тело и социальные изменения в странах бывшего СССР неразрывно связаны.
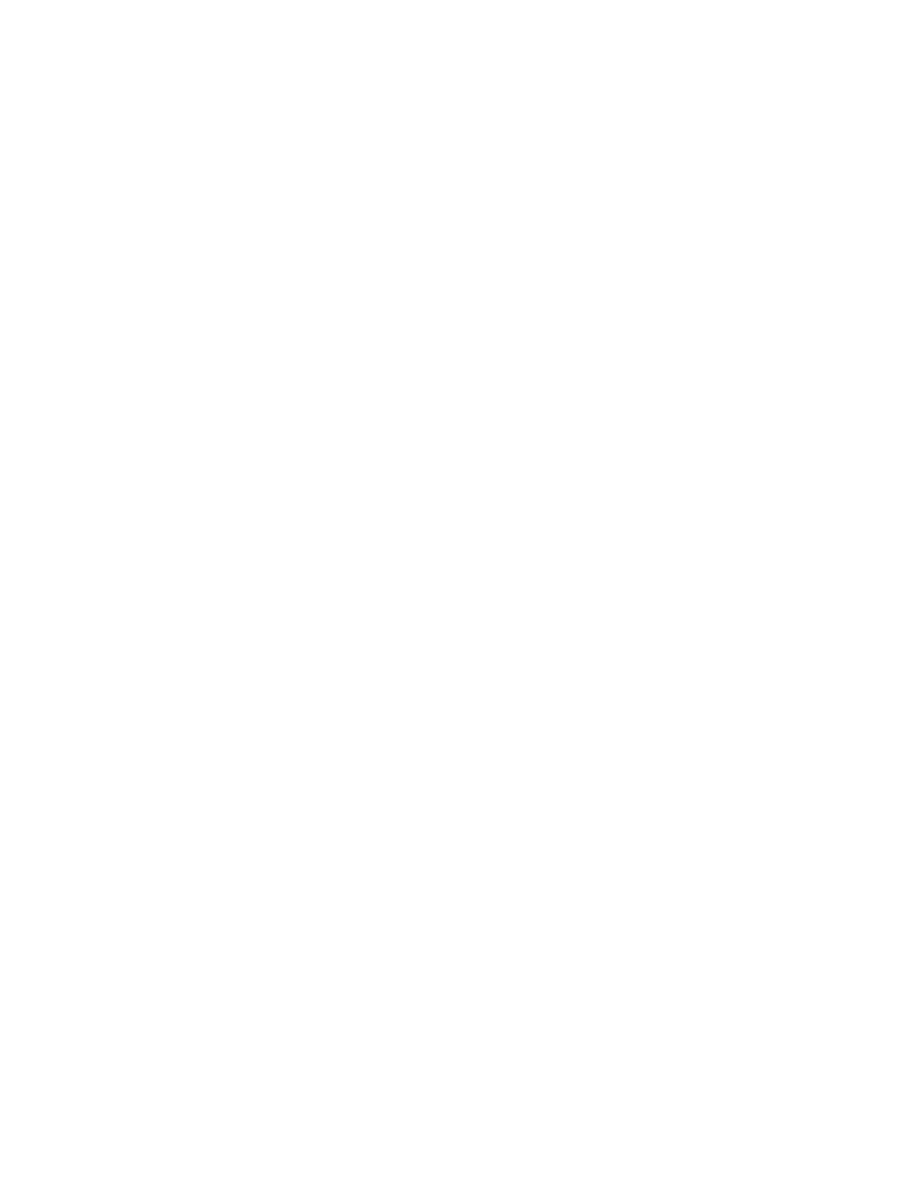
В июле 2016 года Россия декриминализировала нанесение побоев без отягчающих обстоятельств и сделала их административным правонарушением, наказуемым штрафом или задержанием.[1]Наступил 2021 год. Домашнее насилие в России все еще декриминализировано. Недавно мне приснилось, что я была на судебном заседании по поводу домашнего насилия. Я была истицей. Проснувшись, я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что моя история всегда меньше и больше этого закона. Я родилась и выросла в СССР (он же Советский Союз), в стране, которая существует только в нашей памяти, на её периферии - на Северном Кавказе, в одном из советских мест для отдыха. Этот район стал курортной зоной под властью Российской Империи - после успешного военного завоевания и колонизации Кавказа в результате жестокого подавления сопротивления коренных жителей в 19 веке. В конце 1980-х, живя на этой курортной периферии Советского Союза, мы воображали себя еще одним центром - местом, куда приезжали отдыхать люди со всего СССР. Среди советских мест отдыха мы были многоязычным и многокультурным центром, окруженным минеральной водой, высокими горами и близлежащими лыжными трассами. Мы были теплым и красивым севером советского юга, в нескольких часах езды от Черного и Каспийского морей.
Я достигла подросткового возраста, когда Союз быстро распадался, превращаясь в во что-то другое - в уже не существующий союз. И изначально мы, подростки и молодые люди, были взволнованы этими изменениями, даже если наши дедушки и бабушки их ненавидели. Для нас каждый день пах и сулил вкус чего-то нового и непохожего; жизнь была одновременно волнующей и опасной. Мы хотели веселиться, путешествовать по миру и тратить доллары, которые удалось обменять на рубли у иностранных студентов в университете. Самостоятельно перешитая одежда, секс, наркотики, диско- и видео-бары – это в значительной степени описывало нашу повседневную жизнь. Это было тогда. Затем пришла экономическая нестабильность и проблемы; затем - война в Чечне; затем - миграция и иммиграция. А потом пришло сейчас, когда я живу в стране, расположенной на другом конце земного шара от моей родины.
Я стала матерью и исследовательницей. Я путешествую во временном, географическом и лингвистическом пространстве весь день, каждый день. Я стараюсь учиться вместе с миром и у него, но то, что я узнаю, всегда неполное. Хотя я беру свое тело с собой, куда бы я ни шла, я стараюсь не слушать и не смотреть на свое тело. Вместо этого я сосредотачиваю свое внимание на внешней стороне моего тела, на социальном. Но иногда мне не удается избежать того, чтобы мое тело смотрело на меня через зеркало, и я вижу. Хотя зажившие раны и сросшиеся кости могут оставаться невидимыми, невозможно спрятаться от глубоко физической и очень видимой уязвимости моего тела, его шрамов.
Когда я смотрю на свое тело в зеркало, то, что я вижу, мне не нравится то, потому что мое тело полно историй, которые я, возможно, не хочу вспоминать: истории об историях - меня, других, стран, живых и мертвых. Даже если какие-то из этих историй усеяны счастливыми воспоминаниями, они всегда тревожны и неприятны. Эти истории часто связаны с насилием, для меня запечатленным на теле - теле, принадлежащем мне и истории: история насилия - это моя история.
Я достигла подросткового возраста, когда Союз быстро распадался, превращаясь в во что-то другое - в уже не существующий союз. И изначально мы, подростки и молодые люди, были взволнованы этими изменениями, даже если наши дедушки и бабушки их ненавидели. Для нас каждый день пах и сулил вкус чего-то нового и непохожего; жизнь была одновременно волнующей и опасной. Мы хотели веселиться, путешествовать по миру и тратить доллары, которые удалось обменять на рубли у иностранных студентов в университете. Самостоятельно перешитая одежда, секс, наркотики, диско- и видео-бары – это в значительной степени описывало нашу повседневную жизнь. Это было тогда. Затем пришла экономическая нестабильность и проблемы; затем - война в Чечне; затем - миграция и иммиграция. А потом пришло сейчас, когда я живу в стране, расположенной на другом конце земного шара от моей родины.
Я стала матерью и исследовательницей. Я путешествую во временном, географическом и лингвистическом пространстве весь день, каждый день. Я стараюсь учиться вместе с миром и у него, но то, что я узнаю, всегда неполное. Хотя я беру свое тело с собой, куда бы я ни шла, я стараюсь не слушать и не смотреть на свое тело. Вместо этого я сосредотачиваю свое внимание на внешней стороне моего тела, на социальном. Но иногда мне не удается избежать того, чтобы мое тело смотрело на меня через зеркало, и я вижу. Хотя зажившие раны и сросшиеся кости могут оставаться невидимыми, невозможно спрятаться от глубоко физической и очень видимой уязвимости моего тела, его шрамов.
Когда я смотрю на свое тело в зеркало, то, что я вижу, мне не нравится то, потому что мое тело полно историй, которые я, возможно, не хочу вспоминать: истории об историях - меня, других, стран, живых и мертвых. Даже если какие-то из этих историй усеяны счастливыми воспоминаниями, они всегда тревожны и неприятны. Эти истории часто связаны с насилием, для меня запечатленным на теле - теле, принадлежащем мне и истории: история насилия - это моя история.
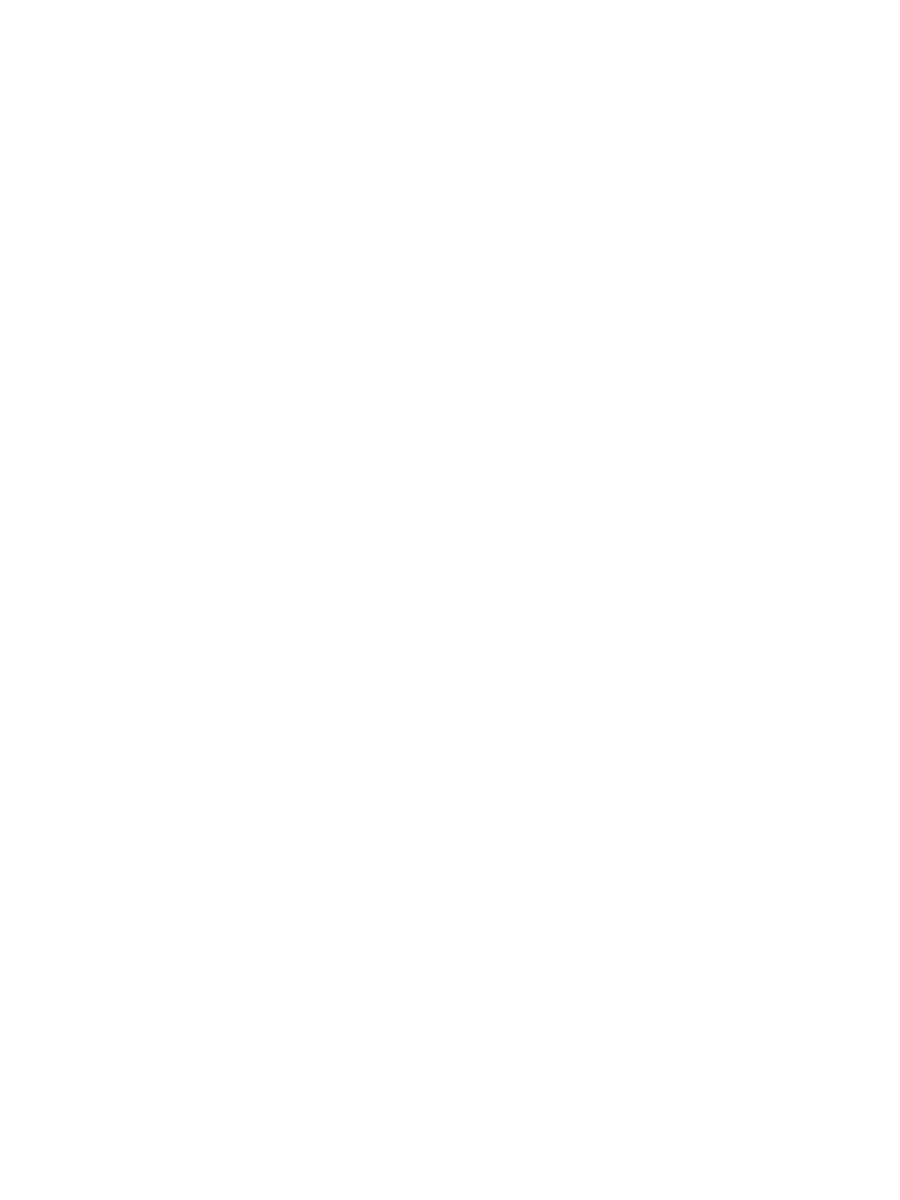
В Советском Союзе, стране, которой больше нет, меня учили быть оптимисткой, всегда смотреть вперед и надеяться на лучшее. Я до сих пор дорожу этими уроками. Вот почему мое тело - это всегда взгляд, украденный от визуальной оценки конечного результата - моего одетого и накрашенного тела. Это образ в зеркале, потому что это тело не смотрит в будущее и не обнадеживает, но сломано и изранено жизнью, политикой, экономикой и любовью. Как и многие другие тела, но не все, мое тело пережило пересечение границ двух столетий, двух эпох и многих стран. В каком-то смысле мое тело представляет собой одновременно правило и исключение из него. Сегодня я путешествую по его отражению в зеркале и прикасаюсь к нему. Прикасаясь, я вижу и чувствую историю, политику, экономику и вспоминаю любовь, потерю, самоотдачу и жизнь. Ниже - генеалогия шрамов на моем теле.
Исторически мой первый шрам находится на правой стороне груди. Это напоминание о соседской собаке, которая сорвалась с цепи и укусила меня, когда я была ребенком. Этот шрам от укуса собаки сегодня выглядит почти исчезнувшим, возможно, потому, что он был одновременно социальным и естественным, поскольку собаки, как и другие существа, не должны быть на/в цепях.
С подросткового возраста я знала, что волосы на моем теле должны исчезать почти везде и всегда. У меня был не один конкретный учитель, но общество, друзья и средства массовой информации. Я сбривала волосы, каждый раз оставляя шрамы на теле. Эти шрамы от бритья неестественны. Эти шрамы - мое исполнение гендерных норм и ожиданий. Они социальны. И история этих шрамов, вероятно, так же стара, как само человечество, поскольку кажд_ая из нас рождается в традициях предков, где человеческие тела должны выглядеть определённым образом; эти традиции становятся невидимыми цепями, оставляющими шрамы на моем теле и телах других.
Каждый день я вижу шрамы на руках и запястьях. Поскольку они всегда на виду, они становятся невидимыми. Шрамы на моих запястьях - результат моего желания больше никогда не иметь шрамов, выражение моей юношеской обиды на весь мир с его правилами, нормами, ценностями, законами и ожиданиями. Это получилось у меня на левом запястье, но, теряя сознание, я не смогла закончить с правым.
Остальные шрамы на руках свидетельствуют о том, что я приняла шрамы как образ жизни. Я обжигаю руки на горячей плите не реже одного раза в неделю или химическими веществами не реже одного раза в год. Я ненамеренно режу их острыми ножами хотя бы раз в месяц. Я доработалась до того, что принесла им невыносимую боль, постоянно печатая на компьютере. Моя, чистя, собирая и разбирая вещи, забивая гвозди в стену, а иногда и в собственные ногти я оставляла новые шрамы на руках. Эти шрамы тоже социальные, а не естественные.
Затем мой череп. Я вижу два шрама. Это шрамы моей подростковой любви в начале 1990-х, во время между двумя эпохами - быстро распадающейся советской и возникающей отличной-от-советской. Я их чувствую. Все видят их, когда я коротко стригусь. В 2000 году на блокпосту на Северном Кавказе, в регионе, в котором тогда происходили военные действия, меня спросили, означают ли шрамы на моей бритой голове, что я принадлежу к военизированному движению или религиозной секте. «Ни то, ни другое», - ответила я.
Исторически мой первый шрам находится на правой стороне груди. Это напоминание о соседской собаке, которая сорвалась с цепи и укусила меня, когда я была ребенком. Этот шрам от укуса собаки сегодня выглядит почти исчезнувшим, возможно, потому, что он был одновременно социальным и естественным, поскольку собаки, как и другие существа, не должны быть на/в цепях.
С подросткового возраста я знала, что волосы на моем теле должны исчезать почти везде и всегда. У меня был не один конкретный учитель, но общество, друзья и средства массовой информации. Я сбривала волосы, каждый раз оставляя шрамы на теле. Эти шрамы от бритья неестественны. Эти шрамы - мое исполнение гендерных норм и ожиданий. Они социальны. И история этих шрамов, вероятно, так же стара, как само человечество, поскольку кажд_ая из нас рождается в традициях предков, где человеческие тела должны выглядеть определённым образом; эти традиции становятся невидимыми цепями, оставляющими шрамы на моем теле и телах других.
Каждый день я вижу шрамы на руках и запястьях. Поскольку они всегда на виду, они становятся невидимыми. Шрамы на моих запястьях - результат моего желания больше никогда не иметь шрамов, выражение моей юношеской обиды на весь мир с его правилами, нормами, ценностями, законами и ожиданиями. Это получилось у меня на левом запястье, но, теряя сознание, я не смогла закончить с правым.
Остальные шрамы на руках свидетельствуют о том, что я приняла шрамы как образ жизни. Я обжигаю руки на горячей плите не реже одного раза в неделю или химическими веществами не реже одного раза в год. Я ненамеренно режу их острыми ножами хотя бы раз в месяц. Я доработалась до того, что принесла им невыносимую боль, постоянно печатая на компьютере. Моя, чистя, собирая и разбирая вещи, забивая гвозди в стену, а иногда и в собственные ногти я оставляла новые шрамы на руках. Эти шрамы тоже социальные, а не естественные.
Затем мой череп. Я вижу два шрама. Это шрамы моей подростковой любви в начале 1990-х, во время между двумя эпохами - быстро распадающейся советской и возникающей отличной-от-советской. Я их чувствую. Все видят их, когда я коротко стригусь. В 2000 году на блокпосту на Северном Кавказе, в регионе, в котором тогда происходили военные действия, меня спросили, означают ли шрамы на моей бритой голове, что я принадлежу к военизированному движению или религиозной секте. «Ни то, ни другое», - ответила я.
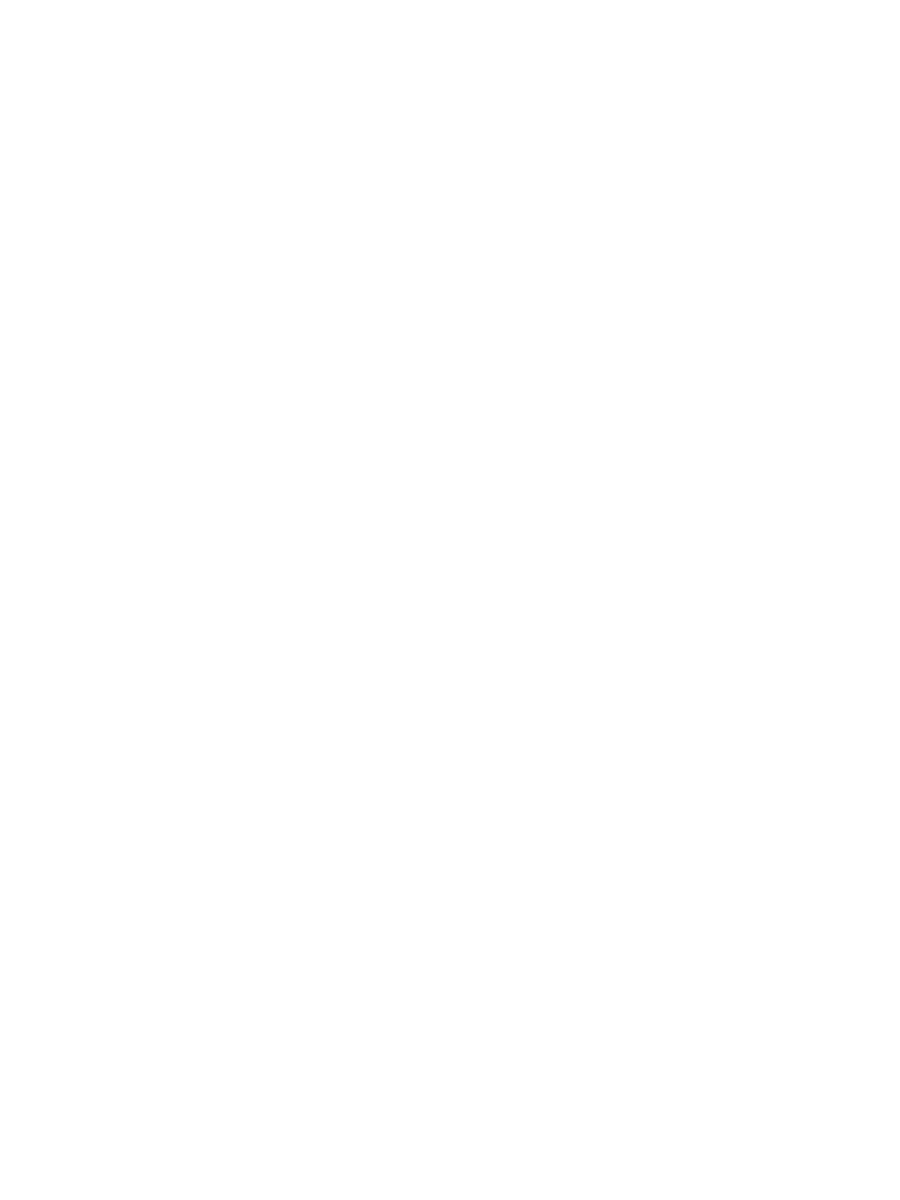
Глядя на них и касаясь их сейчас, я понимаю, что, хотя эти шрамы не символизировали принадлежность ни к военизированному движению, ни к религиозной секте, они тоже были во многом социальными, а не естественными. Эти шрамы были оставлены предметом - семисантиметровым каблуком моих туфель - в горах Северного Кавказа, который почти перестал быть советским. Эти шрамы были результатом принятия обществом насилия как образа жизни, включая насилие в отношении женщин, детей, Других и более слабых, здесь, там, везде, тогда и сейчас. Первое воспоминание об этих двух шрамах переполняет меня: это была холодная вода из душа, смешанная с кровью, стекавшая по моему телу, потому что, как я полагаю, меня нужно было вернуть в сознание, потому что, как я полагаю, от меня все еще был какой-то прок для того, кто использовал каблук моей туфли, чтобы оставить шрамы на моем теле и навсегда запечатлеть эту историю на мне.
Затем идет мой низ живота. Я ненавижу эту часть моего тела. Именно здесь моя неуверенность растет в прямом и переносном смысле, она подпитывается этим длинным уродливым шрамом, идущим от одного бедра к другому. Этот шрам появился в едва постсоветской больнице на юге России, где мало и редко оплачиваемые, уставшие за свою жизнь хирурги и медсестры решили лечить мой разорвавшийся аппендикс с помощью операции как последнего средства спасения. Чтобы спасти меня, они сделали все возможное, используя ресурсы, которых у них не было. Этот длинный и уродливый шрам всегда будет напоминать мне, что я постсоветикус, что для некоторых означает человека, полностью соответствующего советской общественной системе, с отсутствующими личными взглядами и мнениями - послушн_ую последовател_ьницу, а не лидер_ку. Для других этот термин символизирует т_у, кто читает самиздат (альтернативные не санкционированные государством публикации, критикующие ценности Советского Союза). Для других постсоветикус - это т_а, кто протестует против системы с помощью шуток и акций и/или стоит перед Белым домом с Борисом Ельциным в 1991 году, чтобы поддержать распад Союза, разрушительный для одних и освобождающий для других. Это наш трикстеризм - нас, постсоветикусов, ни за что не свести к одному определению. Я никогда не смогу избавиться от своего уродливого шрама на животе, как никогда не смогу изменить историю своей страны. Из-за этой истории этот шрам всегда останется социальным.
Дальше идут шрамы в моём влагалище. Вы их не видите. Они приватные. Было время, я даже это слово не могла сказать - влагалище. Моим официальным введением в сексуальность и физиологию в Советском Союзе была книга «О тебе и мне», черно-белый текст с несколькими рисунками. Эти шрамы внутри моего тела вызваны внешними факторами, включая роды, поднимание, ношение, держание, беспокойство, работу, ходьбу, бег, падение и попытки не уронить. За эти ежедневные переживания всегда платит тело. В контексте прославления материнства - здесь, там, везде, тогда и сейчас - нас учат принимать то, что с ним связано, без вопросов. Ожидается, что те из нас, кто рожает и истекает кровью и рвется во время родов, должны нести бремя материнства как благословение - сначала внутри себя в течение девяти месяцев, а затем снаружи до конца наших жизней. Те из нас, кто становится матерями без родов, могут избежать некоторых из этих шрамов, но все же навсегда останутся преданными бремени материнства как ордену чести. Никто, включая меня, не выходит из материнства невредимой. В конце концов, так как я хотела иметь хоть какое-то качество жизни, мне пришлось удалить все органы деторождения.
Затем идет мой низ живота. Я ненавижу эту часть моего тела. Именно здесь моя неуверенность растет в прямом и переносном смысле, она подпитывается этим длинным уродливым шрамом, идущим от одного бедра к другому. Этот шрам появился в едва постсоветской больнице на юге России, где мало и редко оплачиваемые, уставшие за свою жизнь хирурги и медсестры решили лечить мой разорвавшийся аппендикс с помощью операции как последнего средства спасения. Чтобы спасти меня, они сделали все возможное, используя ресурсы, которых у них не было. Этот длинный и уродливый шрам всегда будет напоминать мне, что я постсоветикус, что для некоторых означает человека, полностью соответствующего советской общественной системе, с отсутствующими личными взглядами и мнениями - послушн_ую последовател_ьницу, а не лидер_ку. Для других этот термин символизирует т_у, кто читает самиздат (альтернативные не санкционированные государством публикации, критикующие ценности Советского Союза). Для других постсоветикус - это т_а, кто протестует против системы с помощью шуток и акций и/или стоит перед Белым домом с Борисом Ельциным в 1991 году, чтобы поддержать распад Союза, разрушительный для одних и освобождающий для других. Это наш трикстеризм - нас, постсоветикусов, ни за что не свести к одному определению. Я никогда не смогу избавиться от своего уродливого шрама на животе, как никогда не смогу изменить историю своей страны. Из-за этой истории этот шрам всегда останется социальным.
Дальше идут шрамы в моём влагалище. Вы их не видите. Они приватные. Было время, я даже это слово не могла сказать - влагалище. Моим официальным введением в сексуальность и физиологию в Советском Союзе была книга «О тебе и мне», черно-белый текст с несколькими рисунками. Эти шрамы внутри моего тела вызваны внешними факторами, включая роды, поднимание, ношение, держание, беспокойство, работу, ходьбу, бег, падение и попытки не уронить. За эти ежедневные переживания всегда платит тело. В контексте прославления материнства - здесь, там, везде, тогда и сейчас - нас учат принимать то, что с ним связано, без вопросов. Ожидается, что те из нас, кто рожает и истекает кровью и рвется во время родов, должны нести бремя материнства как благословение - сначала внутри себя в течение девяти месяцев, а затем снаружи до конца наших жизней. Те из нас, кто становится матерями без родов, могут избежать некоторых из этих шрамов, но все же навсегда останутся преданными бремени материнства как ордену чести. Никто, включая меня, не выходит из материнства невредимой. В конце концов, так как я хотела иметь хоть какое-то качество жизни, мне пришлось удалить все органы деторождения.
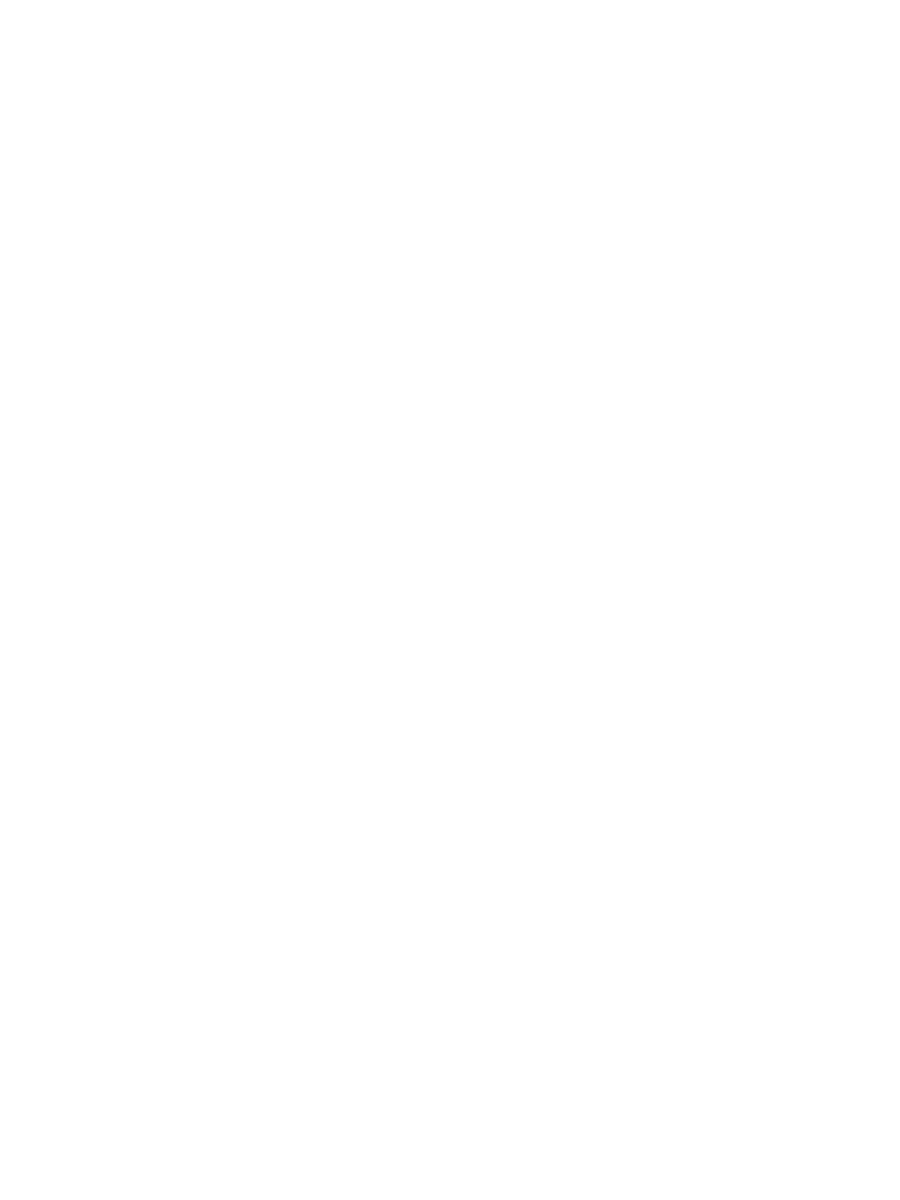
На моем теле есть разные шрамы, от родов и не только. Я была преданной роженицей, даже если иногда и злилась. Я люблю существо, которое я принесла в мир ценой износа и разрыва моих внутренностей, которые в конечном итоге пришлось вырезать из моего тела. Как разбитую чашку, мое влагалище пришлось собрать, отремонтировать. Нас учат, что бремя материнства естественно. Тем не менее, это бремя должно разделяться с другими. Следовательно, это бремя социально, даже если оно часто ложится на плечи матерей, особенно матерей-одиночек. Следовательно, шрамы во влагалище всегда уже социальные, а не естественные.
Путешествуя по моему телу, следующие шрамы - это шрамы вокруг моей груди, проходящие под мышками и вокруг сосков. В начале 2000-х в Соединенных Штатах детская смесь была дискредитирована, и было объявлено о необходимости грудного вскармливания. Будучи аспиранткой, я восприняла и воплотила этот урок. Материнство и кормление грудью сделали боль в спине и шее невыносимой. Моя грудь была слишком большой, и, как мать-одиночка и аспирантка, я была слишком слаба, чтобы носить ее с собой, перемещаясь с места на место, от штата к штату, от конференции к конференции, из страны в страну с ребенком на спине. Эти груди дали жизнь и помогли моему ребенку развиваться, но они были тяжелым бременем для меня. Мне пришлось уменьшить их, что само по себе было болезненным и жестоким процессом. Но боль, которую я чувствовала в спине и шее, не утихала, потому что эта боль тоже не была естественной: для одиноких матерей такая боль всегда социальная - она никогда не проходит.
Мое путешествие по моему телу и его шрамам заканчивается на перекрестке такого же личного, как в «я» и «моё», и социального, как в «всегда уже других». С одной стороны, мое тело - это не просто социальное поле, это мой дом. Я живу в нем и с ним. Его шрамы - это моя история, моя историческая ширина и глубина. Эти шрамы - карта моей истории и истории человечества. Они о боли, но также и о жизни. Мое тело оставляет следы на других, точно так же, как другие оставляют свои следы в виде шрамов на моем теле. Мое тело, как и ваше, - это карта для путешествия по отрывку истории общества. Но это тело, как и ваше, тоже всегда уже мое. Я знаю его так, как никто не знает и никогда не узнает. Оно все еще держится, и я тоже, несмотря на законы, насилие и боль, - здесь, в США, и там, в России, сейчас - в постсоветском настоящем – так же как тогда, в советском прошлом.
Путешествуя по моему телу, следующие шрамы - это шрамы вокруг моей груди, проходящие под мышками и вокруг сосков. В начале 2000-х в Соединенных Штатах детская смесь была дискредитирована, и было объявлено о необходимости грудного вскармливания. Будучи аспиранткой, я восприняла и воплотила этот урок. Материнство и кормление грудью сделали боль в спине и шее невыносимой. Моя грудь была слишком большой, и, как мать-одиночка и аспирантка, я была слишком слаба, чтобы носить ее с собой, перемещаясь с места на место, от штата к штату, от конференции к конференции, из страны в страну с ребенком на спине. Эти груди дали жизнь и помогли моему ребенку развиваться, но они были тяжелым бременем для меня. Мне пришлось уменьшить их, что само по себе было болезненным и жестоким процессом. Но боль, которую я чувствовала в спине и шее, не утихала, потому что эта боль тоже не была естественной: для одиноких матерей такая боль всегда социальная - она никогда не проходит.
Мое путешествие по моему телу и его шрамам заканчивается на перекрестке такого же личного, как в «я» и «моё», и социального, как в «всегда уже других». С одной стороны, мое тело - это не просто социальное поле, это мой дом. Я живу в нем и с ним. Его шрамы - это моя история, моя историческая ширина и глубина. Эти шрамы - карта моей истории и истории человечества. Они о боли, но также и о жизни. Мое тело оставляет следы на других, точно так же, как другие оставляют свои следы в виде шрамов на моем теле. Мое тело, как и ваше, - это карта для путешествия по отрывку истории общества. Но это тело, как и ваше, тоже всегда уже мое. Я знаю его так, как никто не знает и никогда не узнает. Оно все еще держится, и я тоже, несмотря на законы, насилие и боль, - здесь, в США, и там, в России, сейчас - в постсоветском настоящем – так же как тогда, в советском прошлом.
Автоэтнография - это подход к исследованиям и писательской деятельности, основанный на личном опыте как способе понимания социальной жизни; это окно в наше относительное существование, где (личные) исследования всегда социально сознательны. Этот подход исследует пересечение личного и общественного; автоэтнография - это также процесс и продукт. Чтобы начать и закончить это автоэтнографическое произведение, потребовалось глубокое личное пересечение и оценка социального контекста, в котором возник данный личный опыт. Например, см. Ellis, C. (1993). ""There Are Survivors": Telling a Story of Sudden Death." The Sociological Quarterly 34(4): 711-730.
AllaЯblood это псевдоним авторки.
Авторка, Светлана Пешкова, - мать, педагогиня, доцентка антропологии Университета Нью-Гэмпшира и одна из основных членок Коллаборативного коллектива коренных народов Нью-Гэмпшира. Она учится у других и вместе с ними создаёт рассказы о гендерном порядке в бывшем советско-социалистическом пространстве, лидерстве мусульманских женщин, транснациональных исламских движениях и коренном наследии Нью-Гэмпшира.
Авторка, Светлана Пешкова, - мать, педагогиня, доцентка антропологии Университета Нью-Гэмпшира и одна из основных членок Коллаборативного коллектива коренных народов Нью-Гэмпшира. Она учится у других и вместе с ними создаёт рассказы о гендерном порядке в бывшем советско-социалистическом пространстве, лидерстве мусульманских женщин, транснациональных исламских движениях и коренном наследии Нью-Гэмпшира.
«Однако неоднократные побои и побои, совершенные в отношении близких родственников, по-прежнему были наказуемы в соответствии с Уголовным кодексом. В феврале 2017 года Россия снова внесла поправки в Уголовный кодекс и удалила положение о нападении на близких родственников из статьи о нанесении побоев без отягчающих обстоятельств. В результате насилие, совершенное в отношении членов семьи, также было признано административным правонарушением. Только повторные случаи нанесения побоев теперь преследуются как уголовные преступления. Международные и неправительственные организации отметили, что отсутствие адекватной защиты жертв домашнего насилия может быть несовместимо с международными обязательствами России в области прав человека». LINK (по состоянию на 21 марта 2021 г.).
A social history of a scarred body: an autoethnography*
by AllaЯblood
tags: Body, USSR, Protest, Russia, Decolonization
Abstract: This is an introspective exploration of the intersection between corporeality of the human body and its social context. This short autoethnography, a creative combination of qualitative research and non-fictional creative writing, reads the body’s scarring as social history by engaging personal and social when it comes to the history of violence, gendered embodied and in-bodied experiences, and social changes in the former Soviet space.
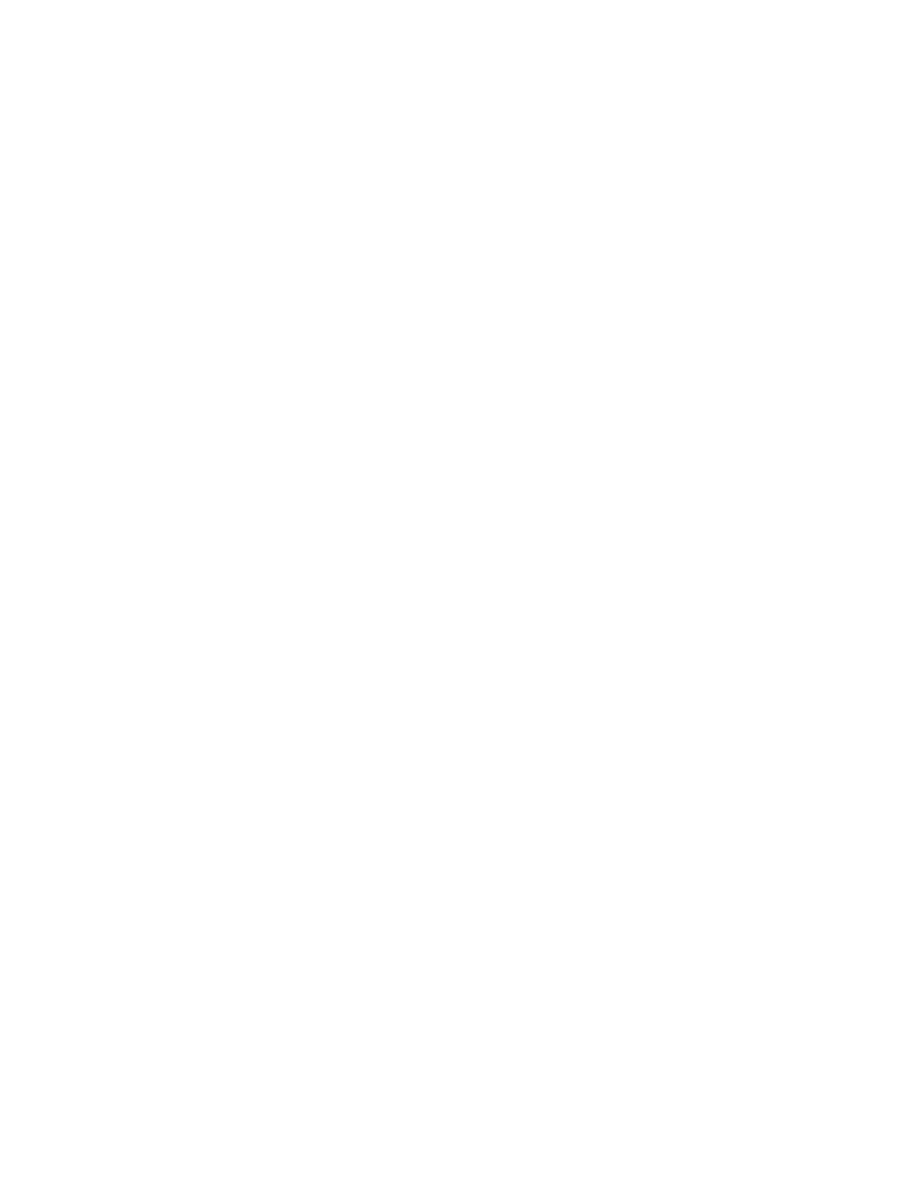
In July of 2016, Russia decriminalized non-aggravated battery and made it an administrative offense punishable by a fine or detention.[1] It is 2021. Domestic violence is still decriminalized in Russia. Recently, I had a dream about being at a hearing about domestic violence. I was a plaintiff. When I woke up, I looked at myself in the mirror and realized that my story is always already less and more than this law. I was born and raised in the USSR (aka the Soviet Union), the country that exists only in our memories, on its periphery – in the North Caucasus, in one of the Soviet holiday spots. This area became a spa area under the Russian Imperial rule, after the successful military conquest and colonization of the Caucasus through a violent clampdown of the indigenous resistance in the 19th century. Growing up Soviet in the late 1980s, while residing in this spa-full periphery of the Union, we fancied ourselves to be yet another center – a place where people from all over the USSR came to spend their vacations. Among Soviet holiday spots, we were a multilingual and multicultural center surrounded by mineral water, tall mountains, and nearby skiing. We were the warm and beautiful North of the Soviet South, hours away from the Black and Caspian Seas.
I came into my teenage years as the Union was rapidly disintegrating, changing into a different-no-longer union. And initially, we, as teens and young adults, were excited about these changes even if our grandparents hated them. To us, every day felt, smelled, and tasted new and different; life was exhilarating and dangerous at the same time. We wanted to party all the time, travel the world, and spend dollars we managed to exchange for our rubles from the foreign students at our university. Self-altered clothes, sex, drugs, disco bars, and watching videotapes pretty much described our daily lives. This was then. Then came economic turmoil; then -- the war in Chechnya; then -- migration and immigration. And then came now, when I’m living in a country, on the other side of the globe from my homelands.
Now, I am a mother and researcher. I travel temporally, geographically, and linguistically all day, every day. I try to learn with and from the world and what I learn is always partial. Although I bring my body with me everywhere I go, I try to not listen to or look at my body. Instead, I focus my view on the outside of my body, on the social. But occasionally, I fail to avoid my body’s stare back at me through a mirror, and I see it. While bruises and broken bones that heal might stay invisible, there is no escape from my body’s deeply physical and very visible vulnerability manifested through its scars.
When I look at my body staring back at me in the mirror, I do not like what I see, because my body tells stories that I may not want to remember: stories about histories – mine, others, countries, of the living and the dead. Even though some of these stories are dotted with happy memories, they are always unsettling and unpleasant. These stories are frequently wedded to violence that stays inscribed onto my body -- this body, which is mine but also history’s: the history of violence is the history of me.
I came into my teenage years as the Union was rapidly disintegrating, changing into a different-no-longer union. And initially, we, as teens and young adults, were excited about these changes even if our grandparents hated them. To us, every day felt, smelled, and tasted new and different; life was exhilarating and dangerous at the same time. We wanted to party all the time, travel the world, and spend dollars we managed to exchange for our rubles from the foreign students at our university. Self-altered clothes, sex, drugs, disco bars, and watching videotapes pretty much described our daily lives. This was then. Then came economic turmoil; then -- the war in Chechnya; then -- migration and immigration. And then came now, when I’m living in a country
Now, I am a mother and researcher. I travel temporally, geographically, and linguistically all day, every day. I try to learn with and from the world and what I learn is always partial. Although I bring my body with me everywhere I go, I try to not listen to or look at my body. Instead, I focus my view on the outside of my body, on the social. But occasionally, I fail to avoid my body’s stare back at me through a mirror, and I see it. While bruises and broken bones that heal might stay invisible, there is no escape from my body’s deeply physical and very visible vulnerability manifested through its scars.
When I look at my body staring back at me in the mirror, I do not like what I see, because my body tells stories that I may not want to remember: stories about histories – mine, others, countries, of the living and the dead. Even though some of these stories are dotted with happy memories, they are always unsettling and unpleasant. These stories are frequently wedded to violence that stays inscribed onto my body -- this body, which is mine but also history’s: the history of violence is the history of me.
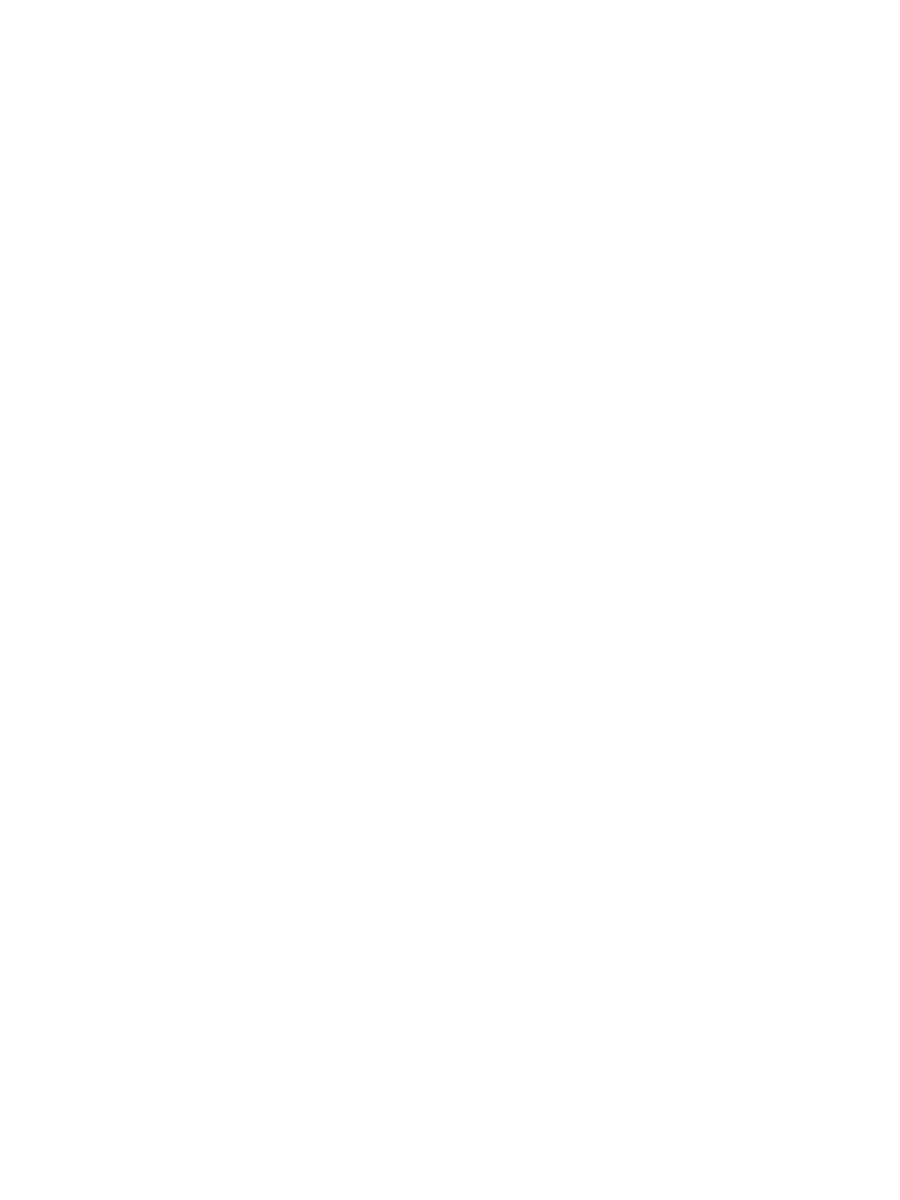
In the Soviet Union, the country that is no more and no longer, I was taught to be an optimist, always look forward and have hope. I still hold these lessons dear. That is why my body is always a glimpse, a glance stolen away from the visual assessment of the final product of my dressed and made-up body, always an image through the mirror, because this body is not forward-looking and hopeful, but broken and scarred by life, politics, economy, and love. Like many other bodies, yet not all, my body has survived the border-crossing of two centuries, two epochs, and too many countries. In a way, my body represents simultaneously, a rule and an exception to it. Today, I choose to travel its reflection in the mirror and touch it. When I do, I see and feel history, politics, economy, and remember love, and leaving, giving, and living life. Below is my body’s scarring genealogy.
Historically, my first scar is on the right side of my chest. This one is a reminder of a neighbor’s dog who got off the chain and bit me when I was a toddler. This dog-scar looks almost gone by now, maybe because it was both social and natural, since dogs, like other beings, are not meant to be on/in chains.
My legs are a multitude of scars, a legion. I run the palms of my hands over them. They are my gendered historical context. Since I was a teenager, I was taught that my body’s hair has to be gone almost always everywhere. I had no one particular teacher, but the society, through friends and mass media. I shaved the hair off faithfully scarring my body every time I did this. These shaving scars are not natural. As the result of my performance of gender, its norms, and expectations, these scars too are always already social. And the history of these scars probably is as old as humanity itself, since every one of us is born into the ancestral traditions of human bodies looking a particular way; these traditions becoming invisible chains scarring my and others’ bodies.
Every day, all the time, I see the scars on my hands and wrists. Because they are always there in my sight, they become invisible. The scars on my wrists are a result of my desire to not have any more scars ever again, an expression of my youth’s resentment of the whole world with its rules, norms, values, regulations, and expectations. I have succeeded on the left wrist but, while drifting out of consciousness, could not finish the right one.
The scars on my hands mark my acceptance of scarring as a way of life. I burn my hands on hot stoves at least once a week or with chemical substances at least once a year. I cut them with sharp knives unintentionally at least once a month. I work them into unbearable pain by typing on the computer all the time. Washing, cleaning, putting things together and taking them apart, hammering nails into the wall, and occasionally my nails…much has gone into scarring my hands and arms. These too are social not natural scars.
Then, there is my scalp. I feel and see two scars. These are the scars of my teenage love in the early 1990s, the time in-between and betwixt two epochs and worlds, the rapidly disintegrating Soviet one and the emergent other-than-Soviet one. I can feel them. All can see them when I cut my hair short. In 2000, at a checkpoint in the North Caucasus, the region then at war, I was asked if the scars on my shaved head meant I belonged to a paramilitary movement or a religious sect. “Neither,” I replied.
Historically, my first scar is on the right side of my chest. This one is a reminder of a neighbor’s dog who got off the chain and bit me when I was a toddler. This dog-scar looks almost gone by now, maybe because it was both social and natural, since dogs, like other beings, are not meant to be on/in chains.
My legs are a multitude of scars, a legion. I run the palms of my hands over them. They are my gendered historical context. Since I was a teenager, I was taught that my body’s hair has to be gone almost always everywhere. I had no one particular teacher, but the society, through friends and mass media. I shaved the hair off faithfully scarring my body every time I did this. These shaving scars are not natural. As the result of my performance of gender, its norms, and expectations, these scars too are always already social. And the history of these scars probably is as old as humanity itself, since every one of us is born into the ancestral traditions of human bodies looking a particular way; these traditions becoming invisible chains scarring my and others’ bodies.
Every day, all the time, I see the scars on my hands and wrists. Because they are always there in my sight, they become invisible. The scars on my wrists are a result of my desire to not have any more scars ever again, an expression of my youth’s resentment of the whole world with its rules, norms, values, regulations, and expectations. I have succeeded on the left wrist but, while drifting out of consciousness, could not finish the right one.
The scars on my hands mark my acceptance of scarring as a way of life. I burn my hands on hot stoves at least once a week or with chemical substances at least once a year. I cut them with sharp knives unintentionally at least once a month. I work them into unbearable pain by typing on the computer all the time. Washing, cleaning, putting things together and taking them apart, hammering nails into the wall, and occasionally my nails…much has gone into scarring my hands and arms. These too are social not natural scars.
Then, there is my scalp. I feel and see two scars. These are the scars of my teenage love in the early 1990s, the time in-between and betwixt two epochs and worlds, the rapidly disintegrating Soviet one and the emergent other-than-Soviet one. I can feel them. All can see them when I cut my hair short. In 2000, at a checkpoint in the North Caucasus, the region then at war, I was asked if the scars on my shaved head meant I belonged to a paramilitary movement or a religious sect. “Neither,” I replied.
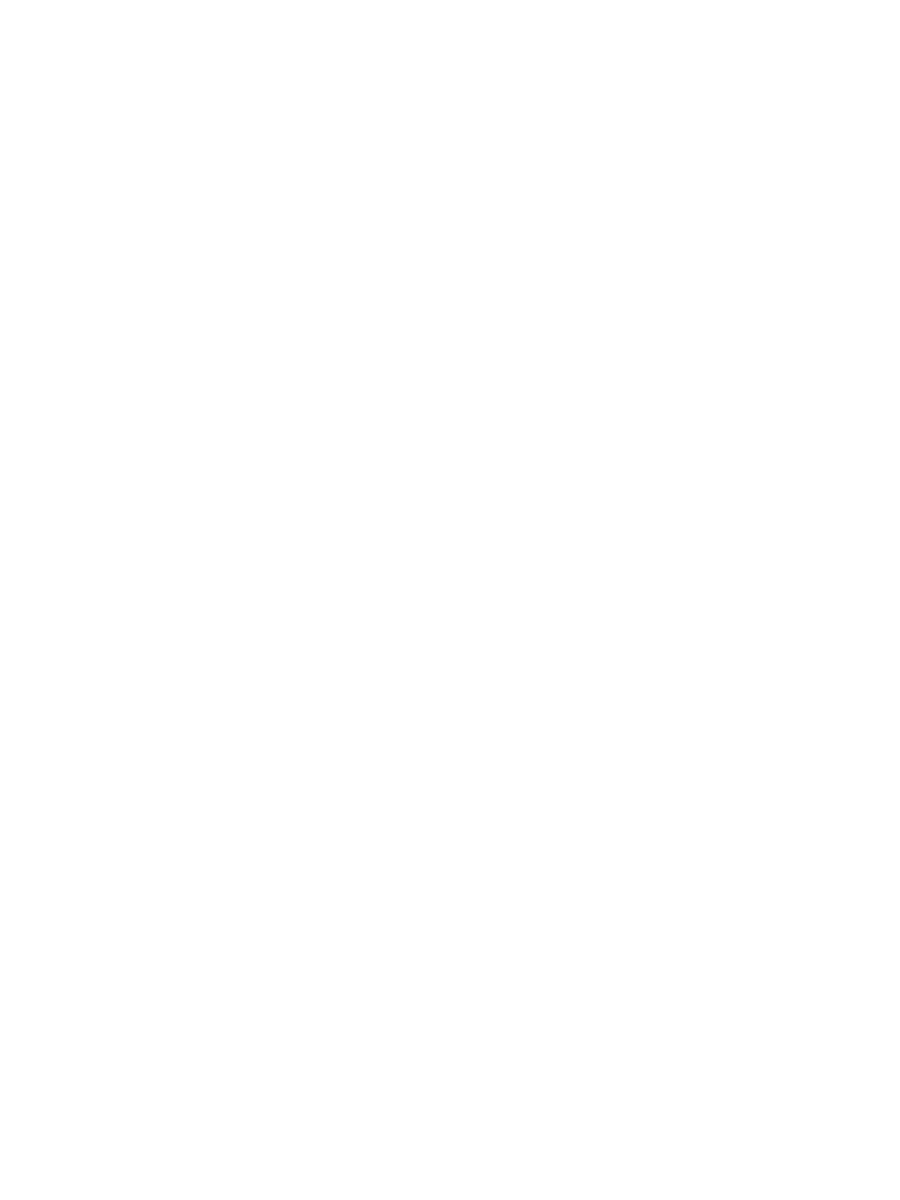
Looking at and touching them now, I realize that even though these scars did not symbolize either, they were very much social, not natural. These scars were made by a physical object - a three-inch heel of my shoe -- at a sky resort in the almost no-longer Soviet North Caucasus. These scars were the result of social acceptance of violence as a way of life, including violence against women, children, the Other, and weaker parties, here, there, everywhere, then and now. The first memory of these two scars overwhelms me: it was the cold water from the shower mixed with blood running down my body, because, I guess, I had to be brought back to consciousness, because, I guess, I still had some use for the one who used my shoe’s heel to scar my body and forever brand this history onto me.
Then comes my low abdomen. I hate this area. This is where my insecurity grows figuratively and literally, it feeds off this long ugly scar running from one hip to the other. This scar comes from a barely post-Soviet hospital in the South of Russia, where the barely and rarely paid, sick and tired of their lives surgeons and nurses decided to deal with my ruptured appendix through abdominal surgery as the last line of defense. To save me, they had to do what they could with resources they did not have. This long and ugly scar will always remind me that I am a post-Sovieticus, which for some means a person conforming fully to the Soviet social system, lucking personal views and opinions and being an obedient follower, never a leader. For others, this term symbolizes the one who is reading samizdat (alternative non-sanctioned [by state] publications criticizing the Soviet Union’s values). For yet others, a post-Sovieticus is the one who is protesting against the system through jokes and actions, and/or standing in front of the White House with Boris Yeltsin in 1991 to support the Union’s disintegration devastating for some and liberating for others. This is our tricksterism, you cannot ever pigeonhole us, the post-Sovieticuses. I can never get rid of my abdominal ugly scar, just like I can never undo my country’s history. Because of this history, this scar will always stay social.
Then come the scars in my vagina. You cannot see them. They are private. There used to be a time, I could not even say the word – vlagalishe (vagina). My official introduction to sexuality and physiology in the Soviet Union was a book “About you and me,” a black and white text with some drawings. These scars inside my body are caused by the outside, including giving birth, lifting, carrying, holding, worrying, working, walking, running, falling, and trying not to drop. These experiences come always at a price that the body pays. In the context where motherhood is glorified – here, there, everywhere, then and now - we are taught to take what comes with it without questioning. Those of us who become birthers and bleed and tear giving birth are expected to carry the burden of motherhood as a blessing, first, inside, for nine months, and then outside for the rest of our lives. Those of us who become mothers without birthing may avoid some of these scars but are still forever wedded to the burden of motherhood as a badge of honor. No one comes out of motherhood unharmed. Neither did I. Eventually, since I wanted to have some quality of life, I had to let go of all the birthing organs.
Then comes my low abdomen. I hate this area. This is where my insecurity grows figuratively and literally, it feeds off this long ugly scar running from one hip to the other. This scar comes from a barely post-Soviet hospital in the South of Russia, where the barely and rarely paid, sick and tired of their lives surgeons and nurses decided to deal with my ruptured appendix through abdominal surgery as the last line of defense. To save me, they had to do what they could with resources they did not have. This long and ugly scar will always remind me that I am a post-Sovieticus, which for some means a person conforming fully to the Soviet social system, lucking personal views and opinions and being an obedient follower, never a leader. For others, this term symbolizes the one who is reading samizdat (alternative non-sanctioned [by state] publications criticizing the Soviet Union’s values). For yet others, a post-Sovieticus is the one who is protesting against the system through jokes and actions, and/or standing in front of the White House with Boris Yeltsin in 1991 to support the Union’s disintegration devastating for some and liberating for others. This is our tricksterism, you cannot ever pigeonhole us, the post-Sovieticuses. I can never get rid of my abdominal ugly scar, just like I can never undo my country’s history. Because of this history, this scar will always stay social.
Then come the scars in my vagina. You cannot see them. They are private. There used to be a time, I could not even say the word – vlagalishe (vagina). My official introduction to sexuality and physiology in the Soviet Union was a book “About you and me,” a black and white text with some drawings. These scars inside my body are caused by the outside, including giving birth, lifting, carrying, holding, worrying, working, walking, running, falling, and trying not to drop. These experiences come always at a price that the body pays. In the context where motherhood is glorified – here, there, everywhere, then and now - we are taught to take what comes with it without questioning. Those of us who become birthers and bleed and tear giving birth are expected to carry the burden of motherhood as a blessing, first, inside, for nine months, and then outside for the rest of our lives. Those of us who become mothers without birthing may avoid some of these scars but are still forever wedded to the burden of motherhood as a badge of honor. No one comes out of motherhood unharmed. Neither did I. Eventually, since I wanted to have some quality of life, I had to let go of all the birthing organs.
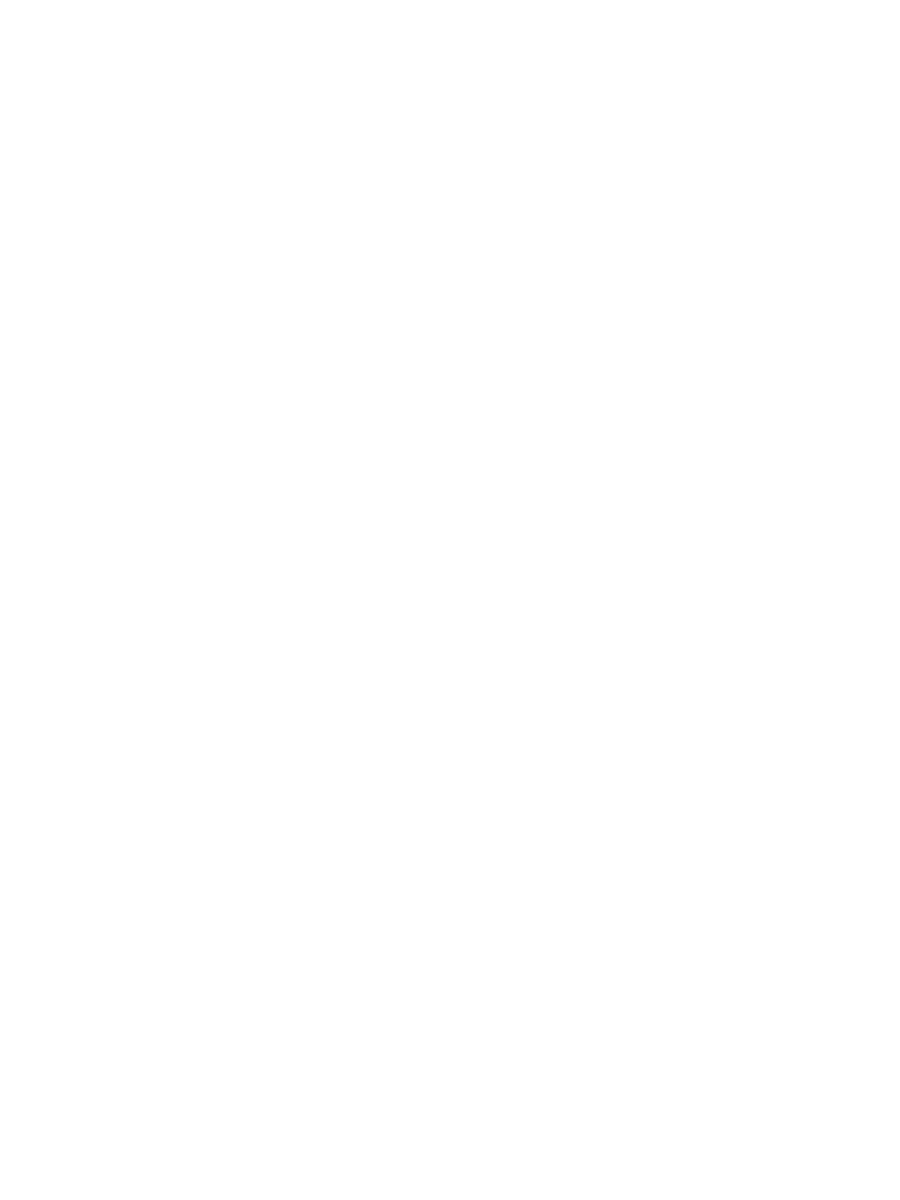
My body has all scars, from birthing and beyond. I was a faithful birther, even if holding an occasional grudge. I love the being I brought into the world, at the price of wear and tear of my insides, which eventually had to be cut out of my body, and, like a broken cup, my vagina had to be put together, repaired. We are taught that the burden of motherhood is natural. Yet, this burden is meant to be shared with others, and therefore social, even if it often falls on the shoulders of mothers, particularly single mothers. Hence, the scars in my vagina are always already social, not natural.
Traveling my body, the next scars are the scarring around my breasts running under the armpits and around my nipples. In the early 2000s, in the United States, formula was discredited and breastfeeding heralded. As a graduate student, I embraced and embodied this lesson. Motherhood and breastfeeding made my back- and neck-pain unbearable. My breasts were too big and, as a single mother and a graduate student, I was too weak to carry them around, while moving from a place to a place, state to state, conference to conference, country to a country with a baby on my back. These breasts gave life and helped to make my child thrive, but they were a heavy burden to bear. I had to let them go, reduce them, which itself was a painful and violent process. But the pain I felt in my back and neck did not subside, because this pain was not natural either: for single mothers, such pain is always already social – it never goes away.
My traveling my body and its scars ends at a crossroads of my body as personal, as in me and mine, and social, as in always already others’. On the one hand, my body is not just a social field, it is my home. I live in and with it. Its scars tell stories and inform my horizon of meaning -- my historical breadth, width, and depth. These scars mark my and humanity’s history. They bring us together. They are about pain but also about life. My body informs and leaves marks on others, just like others leave their marks as scars on my body. My body, like yours, is always already a map to travel with through a section of social history. But this body, like yours, is also always already mine. I know it in the ways no one does or ever will. It still endures and so do I, despite laws, violence, and pain, here, in the US and there, in Russia, now -- in the post-Soviet present -- as it did then, in the Soviet past.
Traveling my body, the next scars are the scarring around my breasts running under the armpits and around my nipples. In the early 2000s, in the United States, formula was discredited and breastfeeding heralded. As a graduate student, I embraced and embodied this lesson. Motherhood and breastfeeding made my back- and neck-pain unbearable. My breasts were too big and, as a single mother and a graduate student, I was too weak to carry them around, while moving from a place to a place, state to state, conference to conference, country to a country with a baby on my back. These breasts gave life and helped to make my child thrive, but they were a heavy burden to bear. I had to let them go, reduce them, which itself was a painful and violent process. But the pain I felt in my back and neck did not subside, because this pain was not natural either: for single mothers, such pain is always already social – it never goes away.
My traveling my body and its scars ends at a crossroads of my body as personal, as in me and mine, and social, as in always already others’. On the one hand, my body is not just a social field, it is my home. I live in and with it. Its scars tell stories and inform my horizon of meaning -- my historical breadth, width, and depth. These scars mark my and humanity’s history. They bring us together. They are about pain but also about life. My body informs and leaves marks on others, just like others leave their marks as scars on my body. My body, like yours, is always already a map to travel with through a section of social history. But this body, like yours, is also always already mine. I know it in the ways no one does or ever will. It still endures and so do I, despite laws, violence, and pain, here, in the US and there, in Russia, now -- in the post-Soviet present -- as it did then, in the Soviet past.
Autoethnography is an approach to research and writing that centers on personal experiences as a way of understanding social life; it is a window into our relational existence where (personal) research is always socially conscious. This approach explores an intersection of personal and social; autoethnography is also a process and a product. To start and finish this autoethnographic piece required a deep personal intersection and evaluation of social context within which particular personal experiences have emerged. For example, see Ellis, C. (1993). ""There Are Survivors": Telling a Story of Sudden Death." The Sociological Quarterly 34(4): 711-730.
AllaЯblood is the author’s pseudonym.
The author, Svetlana Peshkova, is a mother and public educator. She an Associate Professor of Anthropology at the University of New Hampshire and a core member of the Indigenous New Hampshire Collaborative Collective. Her learning from and with others includes stories about gender order in the former-Soviet-socialist space, Muslim women’s leadership, transnational Islamic movements, and New Hampshire’s Indigenous heritage.
The author, Svetlana Peshkova, is a mother and public educator. She an Associate Professor of Anthropology at the University of New Hampshire and a core member of the Indigenous New Hampshire Collaborative Collective. Her learning from and with others includes stories about gender order in the former-Soviet-socialist space, Muslim women’s leadership, transnational Islamic movements, and New Hampshire’s Indigenous heritage.
“However, repeated battery and battery committed against close relatives remained punishable under the Criminal Code. Russia amended the Criminal Code once again in February of 2017 and removed the provision regarding assaulting close relatives from the article on non-aggravated battery. As a result, violence committed against family members has also been made an administrative offense. Only repeated instances of battery are now prosecuted as criminal offenses and punishable by criminal law. International and nongovernmental organizations have noted that the failure to adequately protect victims of domestic violence may be incompatible with Russia’s international human rights obligations.” See LINK (Accessed March 21, 2021).