Язык / Language:
Russian / Русский
English
Теория больной женщины
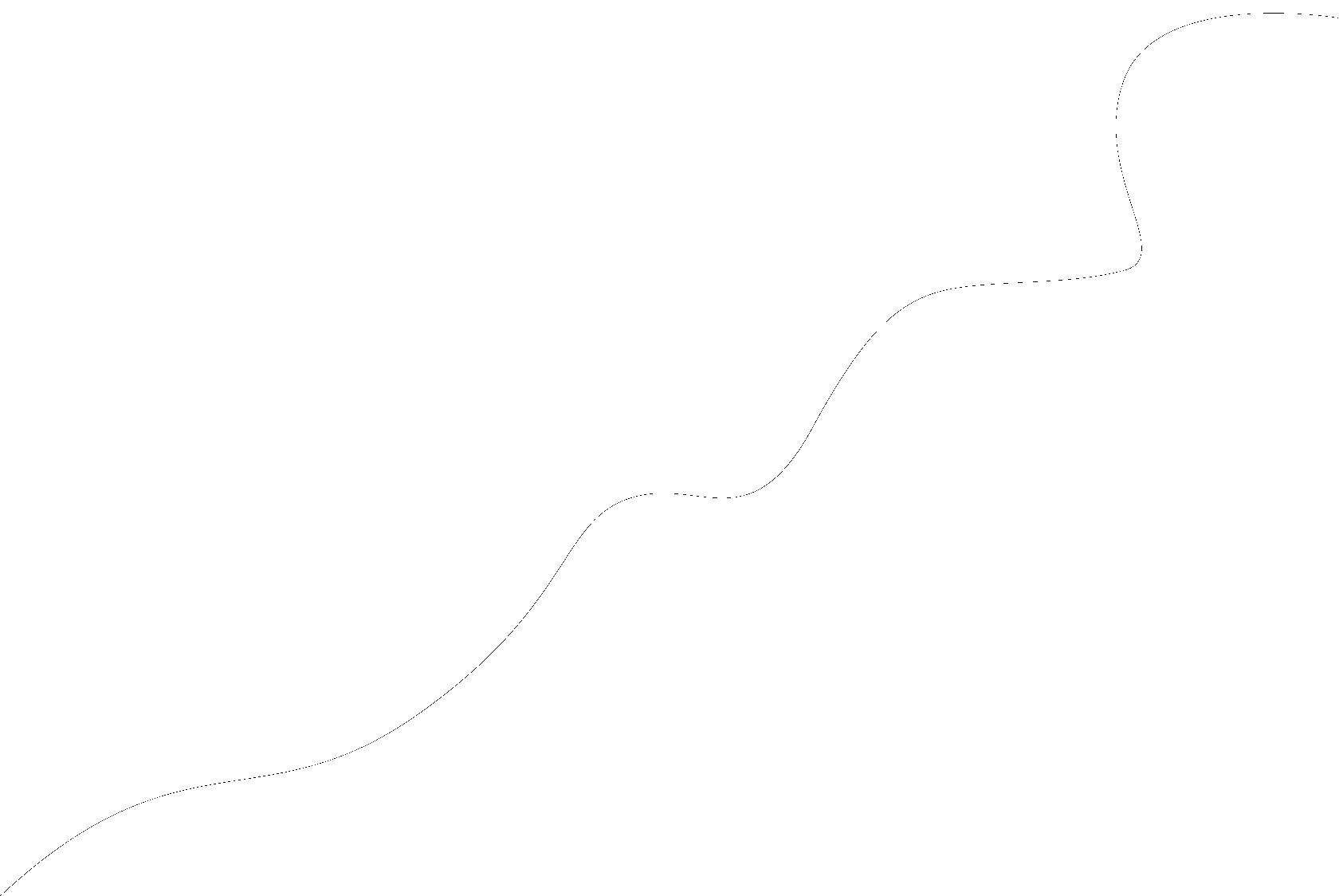
джоанна хедва живут с хроническим заболеванием и их теория больной женщины – для тех, кто не должны были выжить, но выжили
Перевод с английского Мохиры Суяркуловой (под редакцией Олеси Войтовой)
Иллюстрации: Надя Саяпина
Перевод с английского Мохиры Суяркуловой (под редакцией Олеси Войтовой)
Иллюстрации: Надя Саяпина
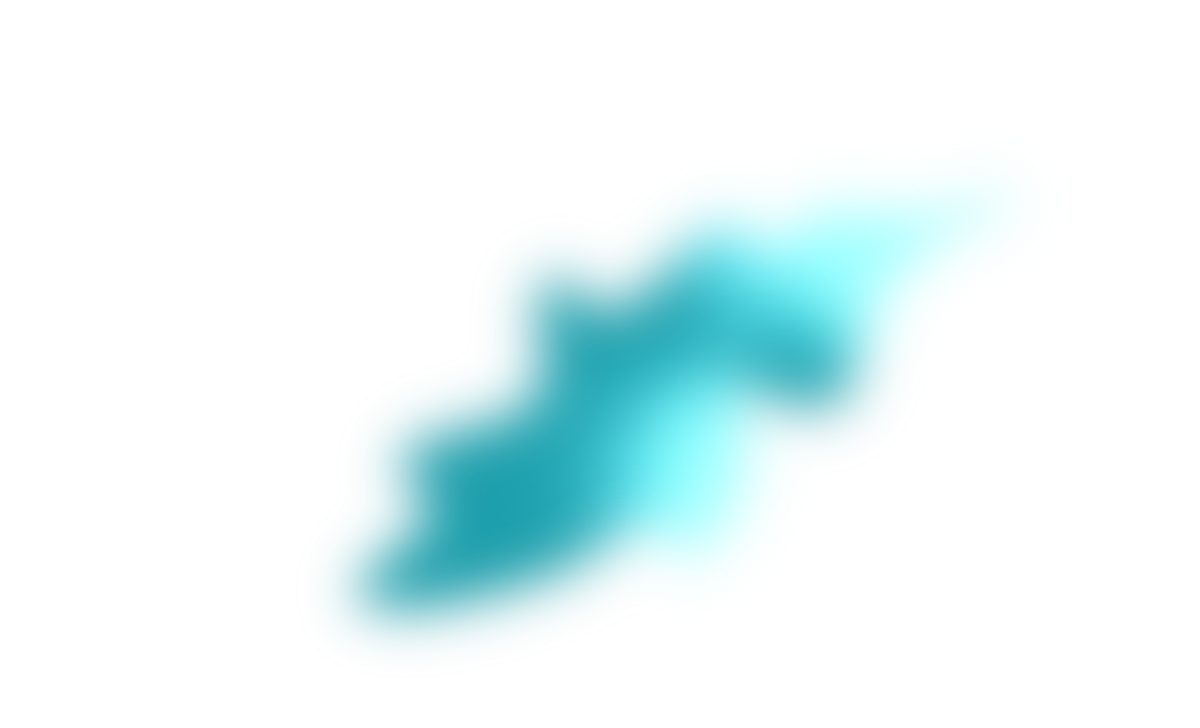
tags: Квир/крип, Активизм, Инвалидность, Искусство, Квир, Киберфеминизм, Киборги, Прайд, Утопия
1.
В конце 2014 года у меня случилось обострение моего хронического заболевания, которое раз в 12-18 месяцев лишает меня, на месяцев пять каждый раз, способности ходить, водить машину, выполнять мою работу, а иногда даже разговаривать и понимать речь, принимать ванну без посторонней помощи и покидать постель. Это конкретное обострение совпало с протестами движения Black Lives Matter [1], к которым я обязательно присоединилась бы, если бы была в состоянии. Я живу в одном квартале от МакАртур Парка в Лос-Анджелесе, в районе, большую часть населения которого составляют выходцы из Южной Америки, в месте, где многие иммигранты начинают свои американские жизни. Поэтому неудивительно, что парк стал одним из мест активных протестов в городе.
Я слышали звуки маршей, доносящиеся до моих окон. Лежа в постели, я подняли свой кулак больной женщины, выражая солидарность.
Я стали думать о том, какие способы протеста доступны больным людям – мне показалось, что многие, для кого чёрные жизни имеют ценность, особенно те, кто на службе, не могут участвовать в маршах, потому что они узники своей работы, им грозит увольнение за участие в марше или буквальное заключение под стражу, и конечно же они опасаются насилия и полицейского произвола, – но, кроме того, люди, не участвующие в протестах, из-за болезни и инвалидности, или потому что они заботятся о ком-то с хроническим заболеванием или инвалидностью.
Я думали и о всех остальных невидимых телах с поднятыми кулаками, спрятанных далеко из поля зрения. Если взять определение политического, предложенное Ханной Арендт – которое до сих пор является одним из преобладающих в мейнстрим-дискурсе – как любую деятельность, осуществляемую в публичной сфере, то нам приходится иметь дело с теми формами исключения, которые подобная дефиниция подразумевает. Если присутствие в публичных пространствах является необходимым условием политической деятельности, то целые слои населения могут считаться аполитичными – просто потому, что они физически не способны доставить свои тела на улицы.
В аспирантуре, где я учились, Арендт была чем-то сродни богине, и я когда-то считали её определение политического радикально освобождающим. Конечно, я понимаем, что это так и было, но в свое время (в конце 1950-х): одним махом она избавилась от нужды в инфраструктуре закона, демократического процесса голосования и необходимости полагаться на способность индивидуальных носителей власти формировать политику – она избавилась от необходимости в политиках (policy) вообще. Все эти вещи раньше считались необходимыми условиями для того, чтобы деятельность причислили к политической. Нет, сказала Арендт, просто поместите свои тела на улицы, и бам: политическое.
Но тем не менее здесь кроются два провала. Первый провал – в её опоре на «публичное», которое требует личного, бинарности между пространствами видимости и невидимости. Это означает, что все, что происходит в личной сфере не является политическим. То есть ты, например, можешь бить свою жену в приватности собственного дома, и это не будет иметь значения. Можешь слать личные сообщения, содержащие расистские оскорбления, но так как они не были «задуманы как публичные», ты каким-то образом не будешь расистом. Арендт беспокоило, что если все считать политическим, тогда ничто не может быть таковым, и именно поэтому она разделила пространства на политические и неполитические. Но в угоду своей тревоге она выбрала принести в жертву целые группы людей, продолжать лишать их видимости и политической значимости. Она исключила их из публичной сферы. Я не первые, кто подвергли Арендт критике по этому поводу. Провал арендтского политического был в свое время изобличен активистами за гражданские права и феминистками в 1960-е и 70-е. «Личное политично» можно также прочитать как «частное/приватное – политическое». Потому что, конечно же, все, что вы делаете в частном пространстве является политическим: с кем вы занимаетесь сексом, сколько времени принимаете душ, и вообще есть ли у вас доступ к чистой воде и душу и так далее.
Есть еще и другая проблема. Как сказала Джудит Батлер в своей лекции «Уязвимость и сопротивление» в 2015-м году, Арендт не учла то, кому разрешено находиться в публичном пространстве, и кто контролирует публичное. Или, говоря конкретнее, кто решает, кто туда попадает. Батлер говорит, что во всех публичных демонстрациях есть одна константа: полиция уже там или скоро там будет. Это резонирует с пугающей силой в контексте движения Black Lives Matter. Неизбежность насилия на демонстрации – особенно на демонстрации, которая возникла, чтобы настоять на важности тел, которые обычно подвергаются насилию, к которым относятся с пренебрежением – гарантирует, что определенное количество людей там не появятся, так как просто не смогут. Добавьте сюда еще физические и ментальные недуги и формы инвалидности, удерживающие людей в постели или дома, и нам придется признать, что многие, во имя кого проводятся эти протесты, не могут в них участвовать – что означает, что они не могут быть видимыми в качестве политических активистов.
В какой-то момент в течение тех недель протеста мне попался пост в Tumblr примерно такого содержания: «всем людям с инвалидностью, больным, тем, у кого ПТСР, тревожность и т. п., кто не могут протестовать на улицах с нами сегодняшней ночью. Ваши голоса слышны и ценны, и с нами». Лайк. Шер.
И так, пока я лежали дома, не в состоянии маршировать, поднять плакат, прокричать лозунг, быть услышанными или видимыми в каком-либо традиционном смысле как политический субъект, сформировался центральный вопрос Теории Больной Женщины: Как бросить кирпич в витрину банка, когда нет сил встать с постели?
В конце 2014 года у меня случилось обострение моего хронического заболевания, которое раз в 12-18 месяцев лишает меня, на месяцев пять каждый раз, способности ходить, водить машину, выполнять мою работу, а иногда даже разговаривать и понимать речь, принимать ванну без посторонней помощи и покидать постель. Это конкретное обострение совпало с протестами движения Black Lives Matter [1], к которым я обязательно присоединилась бы, если бы была в состоянии. Я живу в одном квартале от МакАртур Парка в Лос-Анджелесе, в районе, большую часть населения которого составляют выходцы из Южной Америки, в месте, где многие иммигранты начинают свои американские жизни. Поэтому неудивительно, что парк стал одним из мест активных протестов в городе.
Я слышали звуки маршей, доносящиеся до моих окон. Лежа в постели, я подняли свой кулак больной женщины, выражая солидарность.
Я стали думать о том, какие способы протеста доступны больным людям – мне показалось, что многие, для кого чёрные жизни имеют ценность, особенно те, кто на службе, не могут участвовать в маршах, потому что они узники своей работы, им грозит увольнение за участие в марше или буквальное заключение под стражу, и конечно же они опасаются насилия и полицейского произвола, – но, кроме того, люди, не участвующие в протестах, из-за болезни и инвалидности, или потому что они заботятся о ком-то с хроническим заболеванием или инвалидностью.
Я думали и о всех остальных невидимых телах с поднятыми кулаками, спрятанных далеко из поля зрения. Если взять определение политического, предложенное Ханной Арендт – которое до сих пор является одним из преобладающих в мейнстрим-дискурсе – как любую деятельность, осуществляемую в публичной сфере, то нам приходится иметь дело с теми формами исключения, которые подобная дефиниция подразумевает. Если присутствие в публичных пространствах является необходимым условием политической деятельности, то целые слои населения могут считаться аполитичными – просто потому, что они физически не способны доставить свои тела на улицы.
В аспирантуре, где я учились, Арендт была чем-то сродни богине, и я когда-то считали её определение политического радикально освобождающим. Конечно, я понимаем, что это так и было, но в свое время (в конце 1950-х): одним махом она избавилась от нужды в инфраструктуре закона, демократического процесса голосования и необходимости полагаться на способность индивидуальных носителей власти формировать политику – она избавилась от необходимости в политиках (policy) вообще. Все эти вещи раньше считались необходимыми условиями для того, чтобы деятельность причислили к политической. Нет, сказала Арендт, просто поместите свои тела на улицы, и бам: политическое.
Но тем не менее здесь кроются два провала. Первый провал – в её опоре на «публичное», которое требует личного, бинарности между пространствами видимости и невидимости. Это означает, что все, что происходит в личной сфере не является политическим. То есть ты, например, можешь бить свою жену в приватности собственного дома, и это не будет иметь значения. Можешь слать личные сообщения, содержащие расистские оскорбления, но так как они не были «задуманы как публичные», ты каким-то образом не будешь расистом. Арендт беспокоило, что если все считать политическим, тогда ничто не может быть таковым, и именно поэтому она разделила пространства на политические и неполитические. Но в угоду своей тревоге она выбрала принести в жертву целые группы людей, продолжать лишать их видимости и политической значимости. Она исключила их из публичной сферы. Я не первые, кто подвергли Арендт критике по этому поводу. Провал арендтского политического был в свое время изобличен активистами за гражданские права и феминистками в 1960-е и 70-е. «Личное политично» можно также прочитать как «частное/приватное – политическое». Потому что, конечно же, все, что вы делаете в частном пространстве является политическим: с кем вы занимаетесь сексом, сколько времени принимаете душ, и вообще есть ли у вас доступ к чистой воде и душу и так далее.
Есть еще и другая проблема. Как сказала Джудит Батлер в своей лекции «Уязвимость и сопротивление» в 2015-м году, Арендт не учла то, кому разрешено находиться в публичном пространстве, и кто контролирует публичное. Или, говоря конкретнее, кто решает, кто туда попадает. Батлер говорит, что во всех публичных демонстрациях есть одна константа: полиция уже там или скоро там будет. Это резонирует с пугающей силой в контексте движения Black Lives Matter. Неизбежность насилия на демонстрации – особенно на демонстрации, которая возникла, чтобы настоять на важности тел, которые обычно подвергаются насилию, к которым относятся с пренебрежением – гарантирует, что определенное количество людей там не появятся, так как просто не смогут. Добавьте сюда еще физические и ментальные недуги и формы инвалидности, удерживающие людей в постели или дома, и нам придется признать, что многие, во имя кого проводятся эти протесты, не могут в них участвовать – что означает, что они не могут быть видимыми в качестве политических активистов.
В какой-то момент в течение тех недель протеста мне попался пост в Tumblr примерно такого содержания: «всем людям с инвалидностью, больным, тем, у кого ПТСР, тревожность и т. п., кто не могут протестовать на улицах с нами сегодняшней ночью. Ваши голоса слышны и ценны, и с нами». Лайк. Шер.
И так, пока я лежали дома, не в состоянии маршировать, поднять плакат, прокричать лозунг, быть услышанными или видимыми в каком-либо традиционном смысле как политический субъект, сформировался центральный вопрос Теории Больной Женщины: Как бросить кирпич в витрину банка, когда нет сил встать с постели?
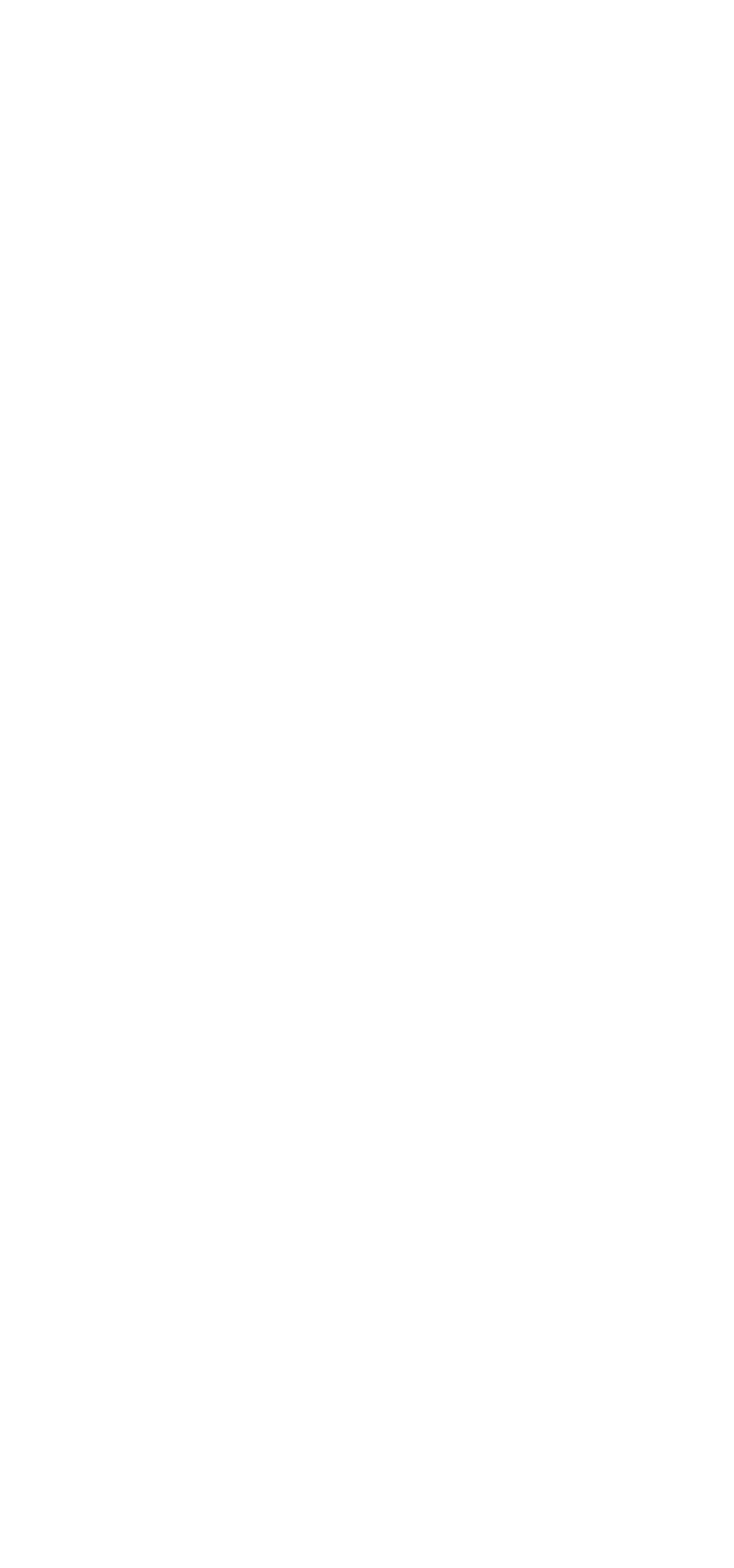
2.
У меня хроническая болезнь. Для тех, кто не знает, что означает хроническое заболевание, позвольте вам помочь: слово «хроническое» произошло от латинского хронос, что значит «относящееся ко времени» (вспомните слово «хронология»), и конкретно означает «длящееся всю жизнь». То есть, хроническое заболевание – это болезнь, которая продолжается всю жизнь. Другими словами, вы не выздоровеете. От него нет исцеления.
Представьте себе вес времени: да, это значит, что вы ощущаете болезнь постоянно. В некоторые очень редкие мгновения меня охватывает чувство вненаходимости, как будто что-то выхватило меня из этого мира, где я осознаю, что не думала о своей болезни несколько минут или даже возможно несколько благословенных часов. Эти блаженные моменты забытья – самое близкое, что у меня есть, к чуду. Когда у вас хроническая болезнь, жизнь сведена к постоянной экономии энергии. У всех действий есть цена: встать с постели, приготовить еду, одеться, ответить на почту. Те, у кого нет хронического заболевания, могут тратить и тратить без последствий: цена не имеет значения. Но для тех из нас с ограниченными запасами энергии, существует система нормирования, жизнь по талонам: часто они заканчиваются до обеда.
Я стали думать о хронической болезни по-другому.
Энн Цветкович пишет: «Что, если депрессия, по крайней мере в Америках, уходит корнями в истории колониализма, геноцида, рабства, правового исключения и ежедневной сегрегации и изоляции, которые преследуют нас все наши жизни, а не нарушение биохимического баланса?». Мне хочется заменить тут слово «депрессия» на все психические заболевания. Цветкович продолжает: «В медицинской литературе преобладает предположение о субъекте как белом мужчине среднего класса, для которого плохое самочувствие зачастую непонятно, потому как не вписывается в их опыт жизни, в которой привилегии и комфорт смягчают все». Другими словами, благополучие и доброе здоровье в Америке сегодня доступны только белым и богатым.
Позвольте мне процитировать Стархоук, которая в предисловии к новому изданию её книги от 1982 года «Сны о темноте» (Dreaming the Dark) написала: «Психологи создали миф, что где-то существует некое состояние здоровья, которое является нормой, из чего следует, что большинство людей находятся в этом состоянии, а те, кто тревожны, подавлены, невротичны, стрессуют или в общем несчастливы – отклонение от нормы». Я бы здесь заменили слово «психологи» на «расисты», «врачи», «ваш босс», «неолиберализм», «гетеронормативность» и «Америка».
Все больше публикаций в последние годы обсуждают то, как повсеместно «женская» боль игнорируется и не получает серьезного внимания и надлежащего лечения (по сравнению с «мужской») в отделениях неотложной помощи и клиниках, со стороны врачей и специалистов, страховых компаний, семей, мужей, друзей и в целом культуры. В недавней статье в The Atlantic под заголовком «О том, как врачи не воспринимают женскую боль серьезно» супруг пишет об опыте его жены Рэйчел, которой пришлось провести долгое время в ожидании в приемном покое, пока наконец ей не оказали помощь, которая должна была быть оказана в этой ситуации (у неё диагностировали перекручивание яичника – это когда киста в яичнике вырастает до такого большого размера, что выпадает в фаллопиевую трубу и перекручивает её). «По всей стране мужчинам приходится ждать в среднем 49 минут, чтобы получить анальгетики против острой боли в животе. Женщины ждут в среднем 65 минут. Рэйчел пришлось прождать где-то от 90 минут до двух часов», – пишет он. В завершение её страданий Рэйчел провела почти пятнадцать часов в ожидании операции, на которую её должны были отправить незамедлительно по её прибытии. Статья завершается на том, что хотя шрамы на её теле заживают, «она все еще не может прийти в себя от душевной боли – того, что она называет “травмой невидимости”».
В этой статье не упоминается вопрос расы – что наталкивает меня на предположение, что автор и его жена белые. Белость позволяет подобную невежественную нейтральность: она основа пробелов, презумпции универсальности. (Исследования показывают, что белые люди прислушиваются, когда другие белые люди говорят о расе, куда более охотно, чем когда высказывается человек небелый. Как персона, имеющие белый пасс, позвольте мне напрямую обратиться к белым людям: посмотрите на мое белое лицо и слушайте).
Травма невидимости. Опять-таки – кому позволено находиться в публичной сфере? Кому позволено быть видимыми? Я ни в коей мере не хочу обесценить ужасный опыт Рэйчел – мне самим однажды пришлось прождать много часов в приемном покое, пока мне не диагностировали разрыв кисты – я только хочу указать на предположение, на котором основан её ужас: что наша уязвимость должна быть увидена и признана с почтением, и что нам полагается получить заботу неотложно и с «уважением к автономии пациента», как излагается в Четырех Принципах Биомедицинской Этики. Конечно, мы все должны исходить из таких предположений. Но мы должны спросить себя, кому позволено это. Для кого в нашем обществе такие мнения позволительны и оправданы? А для кого общество утверждает обратное?
Сравните опыт Рэйчел в руках медицинского учреждения с опытом Кам Брок. В сентябре 2014-го года Брок, 32-летняя черная женщина, рожденная на Ямайке и проживающая в Нью Йорке, была остановлена полицейскими, когда она была за рулем БМВ. Они обвинили её в вождении под действием марихуаны, и несмотря на то, что её поведение и обыск машины не обнаружили никаких доказательств в пользу этого обвинения, полиция тем не менее конфисковала её автомобиль. Согласно судебному делу Брок против города Нью Йорк и Гарлемской больницы, когда Брок явилась, чтобы вернуть свою машину, конфискованную полицией, она была арестована за то, что вела себя, согласно полицейским, «слишком эмоционально», и была против своей воли госпитализирована в психиатрическое отделение Гарлемской больницы. (Как человек, которых тоже госпитализировали за то, что я были «слишком» эмоциональными, эта история поднимает волны неприятных воспоминаний в моей голове). Врачи посчитали её «неадекватной» и диагностировали у неё биполярное расстройство, потому что она заявила, что Обама фолловит её в Твиттере – что было правдой, которую медперсонал не потрудился подтвердить. После её силой удерживали восемь дней, вкалывали ей успокоительное, заставляли принимать психиатрические препараты, участвовать в групповой терапии, раздевали догола. В медкарте больницы, полученной адвокатом было написано: «Цель: пациентка скажет вслух, что образование важно для трудоустройства, и что Обама не фолловит её в Твиттере». Также там отмечена её «неспособность тестировать реальность». Когда её отпустили, ей выписали счет на $13,637.10.
Легко ответить на вопрос о том, почему врачи посчитали, что Брок «не в себе» из-за её утверждения об Обаме-фолловере: потому что в этом обществе молодая черная женщина никак не может быть такой важной – и если она настаивает на этом, то это значит, что она «больная».
У меня хроническая болезнь. Для тех, кто не знает, что означает хроническое заболевание, позвольте вам помочь: слово «хроническое» произошло от латинского хронос, что значит «относящееся ко времени» (вспомните слово «хронология»), и конкретно означает «длящееся всю жизнь». То есть, хроническое заболевание – это болезнь, которая продолжается всю жизнь. Другими словами, вы не выздоровеете. От него нет исцеления.
Представьте себе вес времени: да, это значит, что вы ощущаете болезнь постоянно. В некоторые очень редкие мгновения меня охватывает чувство вненаходимости, как будто что-то выхватило меня из этого мира, где я осознаю, что не думала о своей болезни несколько минут или даже возможно несколько благословенных часов. Эти блаженные моменты забытья – самое близкое, что у меня есть, к чуду. Когда у вас хроническая болезнь, жизнь сведена к постоянной экономии энергии. У всех действий есть цена: встать с постели, приготовить еду, одеться, ответить на почту. Те, у кого нет хронического заболевания, могут тратить и тратить без последствий: цена не имеет значения. Но для тех из нас с ограниченными запасами энергии, существует система нормирования, жизнь по талонам: часто они заканчиваются до обеда.
Я стали думать о хронической болезни по-другому.
Энн Цветкович пишет: «Что, если депрессия, по крайней мере в Америках, уходит корнями в истории колониализма, геноцида, рабства, правового исключения и ежедневной сегрегации и изоляции, которые преследуют нас все наши жизни, а не нарушение биохимического баланса?». Мне хочется заменить тут слово «депрессия» на все психические заболевания. Цветкович продолжает: «В медицинской литературе преобладает предположение о субъекте как белом мужчине среднего класса, для которого плохое самочувствие зачастую непонятно, потому как не вписывается в их опыт жизни, в которой привилегии и комфорт смягчают все». Другими словами, благополучие и доброе здоровье в Америке сегодня доступны только белым и богатым.
Позвольте мне процитировать Стархоук, которая в предисловии к новому изданию её книги от 1982 года «Сны о темноте» (Dreaming the Dark) написала: «Психологи создали миф, что где-то существует некое состояние здоровья, которое является нормой, из чего следует, что большинство людей находятся в этом состоянии, а те, кто тревожны, подавлены, невротичны, стрессуют или в общем несчастливы – отклонение от нормы». Я бы здесь заменили слово «психологи» на «расисты», «врачи», «ваш босс», «неолиберализм», «гетеронормативность» и «Америка».
Все больше публикаций в последние годы обсуждают то, как повсеместно «женская» боль игнорируется и не получает серьезного внимания и надлежащего лечения (по сравнению с «мужской») в отделениях неотложной помощи и клиниках, со стороны врачей и специалистов, страховых компаний, семей, мужей, друзей и в целом культуры. В недавней статье в The Atlantic под заголовком «О том, как врачи не воспринимают женскую боль серьезно» супруг пишет об опыте его жены Рэйчел, которой пришлось провести долгое время в ожидании в приемном покое, пока наконец ей не оказали помощь, которая должна была быть оказана в этой ситуации (у неё диагностировали перекручивание яичника – это когда киста в яичнике вырастает до такого большого размера, что выпадает в фаллопиевую трубу и перекручивает её). «По всей стране мужчинам приходится ждать в среднем 49 минут, чтобы получить анальгетики против острой боли в животе. Женщины ждут в среднем 65 минут. Рэйчел пришлось прождать где-то от 90 минут до двух часов», – пишет он. В завершение её страданий Рэйчел провела почти пятнадцать часов в ожидании операции, на которую её должны были отправить незамедлительно по её прибытии. Статья завершается на том, что хотя шрамы на её теле заживают, «она все еще не может прийти в себя от душевной боли – того, что она называет “травмой невидимости”».
В этой статье не упоминается вопрос расы – что наталкивает меня на предположение, что автор и его жена белые. Белость позволяет подобную невежественную нейтральность: она основа пробелов, презумпции универсальности. (Исследования показывают, что белые люди прислушиваются, когда другие белые люди говорят о расе, куда более охотно, чем когда высказывается человек небелый. Как персона, имеющие белый пасс, позвольте мне напрямую обратиться к белым людям: посмотрите на мое белое лицо и слушайте).
Травма невидимости. Опять-таки – кому позволено находиться в публичной сфере? Кому позволено быть видимыми? Я ни в коей мере не хочу обесценить ужасный опыт Рэйчел – мне самим однажды пришлось прождать много часов в приемном покое, пока мне не диагностировали разрыв кисты – я только хочу указать на предположение, на котором основан её ужас: что наша уязвимость должна быть увидена и признана с почтением, и что нам полагается получить заботу неотложно и с «уважением к автономии пациента», как излагается в Четырех Принципах Биомедицинской Этики. Конечно, мы все должны исходить из таких предположений. Но мы должны спросить себя, кому позволено это. Для кого в нашем обществе такие мнения позволительны и оправданы? А для кого общество утверждает обратное?
Сравните опыт Рэйчел в руках медицинского учреждения с опытом Кам Брок. В сентябре 2014-го года Брок, 32-летняя черная женщина, рожденная на Ямайке и проживающая в Нью Йорке, была остановлена полицейскими, когда она была за рулем БМВ. Они обвинили её в вождении под действием марихуаны, и несмотря на то, что её поведение и обыск машины не обнаружили никаких доказательств в пользу этого обвинения, полиция тем не менее конфисковала её автомобиль. Согласно судебному делу Брок против города Нью Йорк и Гарлемской больницы, когда Брок явилась, чтобы вернуть свою машину, конфискованную полицией, она была арестована за то, что вела себя, согласно полицейским, «слишком эмоционально», и была против своей воли госпитализирована в психиатрическое отделение Гарлемской больницы. (Как человек, которых тоже госпитализировали за то, что я были «слишком» эмоциональными, эта история поднимает волны неприятных воспоминаний в моей голове). Врачи посчитали её «неадекватной» и диагностировали у неё биполярное расстройство, потому что она заявила, что Обама фолловит её в Твиттере – что было правдой, которую медперсонал не потрудился подтвердить. После её силой удерживали восемь дней, вкалывали ей успокоительное, заставляли принимать психиатрические препараты, участвовать в групповой терапии, раздевали догола. В медкарте больницы, полученной адвокатом было написано: «Цель: пациентка скажет вслух, что образование важно для трудоустройства, и что Обама не фолловит её в Твиттере». Также там отмечена её «неспособность тестировать реальность». Когда её отпустили, ей выписали счет на $13,637.10.
Легко ответить на вопрос о том, почему врачи посчитали, что Брок «не в себе» из-за её утверждения об Обаме-фолловере: потому что в этом обществе молодая черная женщина никак не может быть такой важной – и если она настаивает на этом, то это значит, что она «больная».
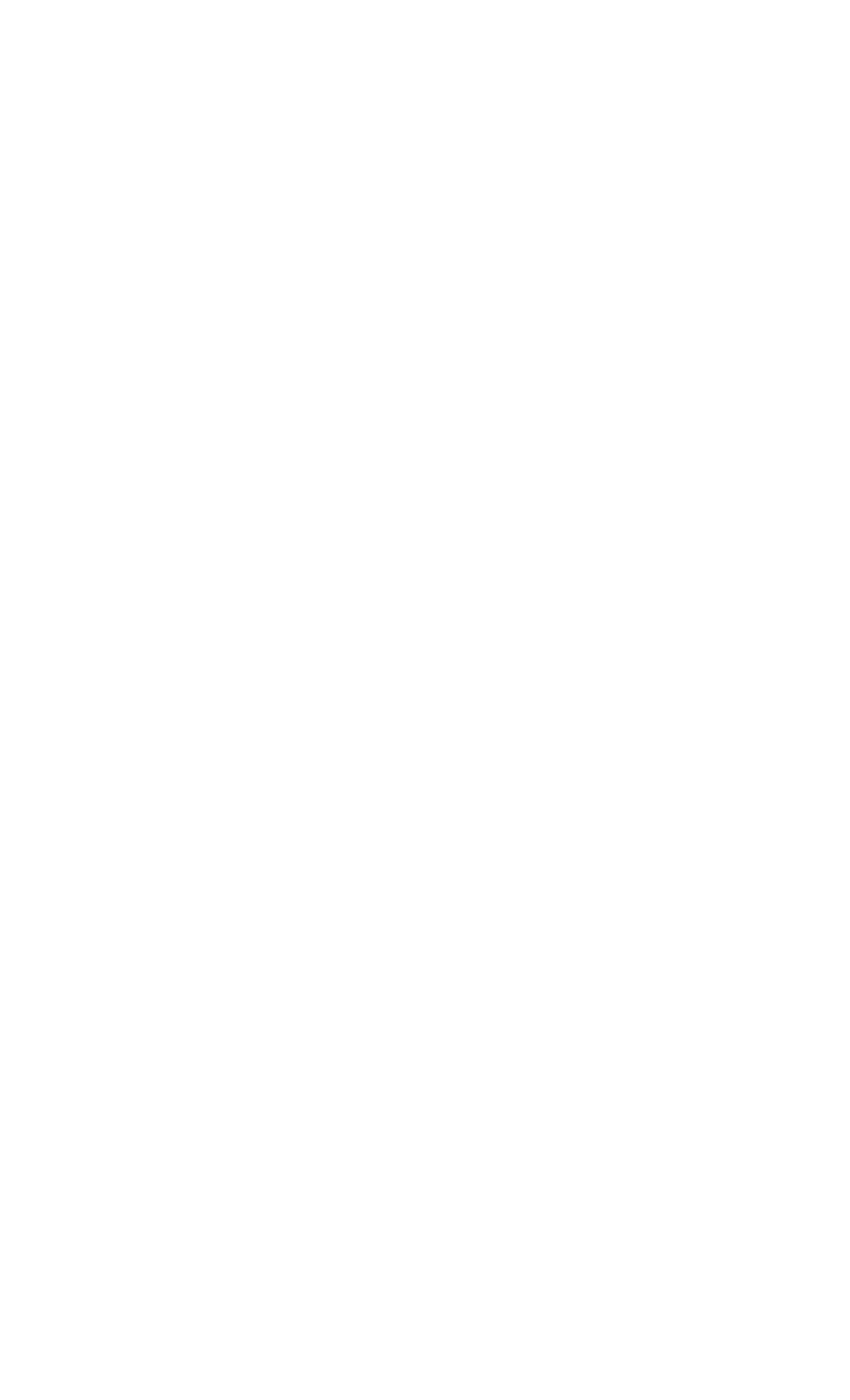
3.
Прежде чем рассказывать вам о «больной женщине» во многих её обличиях, я должны рассказать вам о себе как личности, обратиться к вам из своей особенной точки отправления.
Я противостоим той идее, что западный медицинско-страховочный индустриальный комплекс понимает меня во всей полноте, хотя они несомненно так считают. Они навешивали на меня множество ярлыков в течение многих лет, и хотя некоторые предоставили возможность для полезной артикуляции – в конечном счете, как бы мы не старались изменить мир, нам все равно приходится находить способы справляться с реалиями вокруг нас – для начала я хотели бы предложить некоторые альтернативные понимания моей «болезни».
Возможно, все дело в том, что моя Луна в Раке в 8-м доме, Доме Смерти, или в том, что мой Марс в 12-м доме, Доме Болезни, Секретов, Печали и Саморазрушения. Или можно все объяснить тем, что мать моего отца сбежала из Северной Кореи в детстве и скрывала этот факт от семьи, и только несколько лет назад она случайно проболталась об этом, но поняв это, сразу же стала отрицать. Или же тем, что моя мать страдает от не диагностированного психического заболевания, которое активно отрицается её семьей, и которое усугубляют 40-летняя история наркозависимости, сексуальная травма и гепатит от грязной иглы, по сей день не вылеченный, в то время, как она перемещается между тюрьмой, сквотами и бездомным существованием. Или тем, что я подвергались физическому и эмоциональному насилию в детстве, выросли в окружении бедности, аддикции и насилия и не общаемся с родителями 13 лет. Возможно, это потому, что я бедны – согласно Службе Внутренних Доходов, в 2014-м году, мой годовой доход составил $5,730 (результат того, что я не можем работать на полную ставку по состоянию здоровья) – что означает, что моя медицинская страховка предоставляется мне штатом Калифорния (Medi-Cal), что мой «лечащий врач» – это группа ассистентов докторов и медсестер в клинике на втором этаже торгового центра, и что мне приходится полагаться на пищевые талоны, чтобы есть. Возможно, все это можно заключить в одно слово «травма». А может быть, у меня слишком тонкая кожа, и мне просто не повезло.
Не менее важно мне ещё поделиться западной медицинской терминологией, которая была ко мне прикреплена – нравится она мне или нет, она предлагает нам общий язык. «Это язык угнетателя», – писала Эдриенн Рич в 1971-м, «но он мне необходим, чтобы говорить с вами». Но позвольте мне предложить и другой язык. В языке кри коренных американцев, существительное и глагол в предложении «Я болен» взаимодействуют отлично от английского. Вместо «I am sick», на языке кри говорят «The sickness has come to me» (Болезнь пришла ко мне). Мне очень нравится это, и я хочу отметить это здесь.
Итак, вот болезни, которые пришли ко мне.
Эндометриоз, болезнь матки, при которой внутренний маточный слой начинает расти там, где не должен – в основном в области органов таза, но и не только там, а везде, в ногах, в животе, и даже в голове. Это значит хронические боли, желудочно-кишечный хаос, чудовищные, эпические кровотечения, в некоторых случаях рак; и это значит, что у меня были выкидыши, у меня не может быть детей, и что мне предстоят несколько операций. Когда я объяснила свою болезнь подруге, которая о ней не знала, она воскликнула: «Так все твое тело – матка!». Можно и так это представить, да. (Представьте себе что сказали бы об это древнегреческие врачи – авторы теории о «блуждающей матке»). Это значит, что каждый месяц те самые непоседливые маточные клетки, засевшие в разных уголках моего тела, «следуют своей природе и истекают кровью», словами Хилари Мантел – соратницы в борьбе с эндометриозом. Это приводит к образованию кист, которые в конечном итоге разрываются, оставляя за собой комки мертвых тканей, как осколки маленьких бомб.
Биполярное расстройство, паническое расстройство и расстройство деперсонализации тоже пришли ко мне. Это значит, что я живем между этим миром и другим, созданным моим мозгом, который уже более не удерживается в своих границах четкой концепцией «самости». Благодаря этим «расстройствам», я можем испытывать невероятно яркие эмоции, полеты мысли и ландшафты фантазий, чувство, что мой разум взорвался и стал звездами, ощущение, что я стали ничем, а также исступленный восторг, упоение, печаль и кошмарные галлюцинации. Меня госпитализировали по моей воле и против нее из-за этого, и один из препаратов, который мне назначали чуть не убил меня – от него произошел редкий побочные эффект, при котором у человека отваливается кожа. Другой препарат стоит $800 в месяц – я его принимали только потому, что врач подкидывал мне бесплатные пробники. Если я хотим быть способной работать на полную ставку – чего от меня требует мир – я должны ежедневно принимать антипсихозные препараты, которые вызывают потери кратковременной памяти и неконтролируемое слюнотечение, среди других сексуальных побочек. Эти визитеры приводили с собой друзей: нервные срывы, психические коллапсы, или как там еще хотите их назвать, три раза в моей жизни. Я точно знаем, что они еще будут гостить в моем доме. Они смотивировали попытки самоубийства (большая часть из них в состоянии диссоциации) более дюжины раз, впервые когда мне было девять лет. Та первая попытка не сработала, только потому что приняв пригоршню таблеток снотворного, каким-то образом я проснулись следующим утром и пошли в школу, как ни в чем ни бывало. Я никому не рассказывали об этом до моего первого психиатрического освидетельствования в двадцать с лишним лет.
И наконец, аутоиммунное заболевание, ставящее в тупик всех моих врачей, пришло ко мне и пока еще отказывается быть названным. Как написала Каролин Лазард о своем опыте с аутоиммунными болезнями: «Аутоиммунные расстройства трудно диагностировать. Между первыми симптомами и диагнозом анкилозирующего спондилоартрита в среднем проходит от восьми до двенадцати лет». Имена вроде «множественный склероз», «фибромиалгия» и другие, которых я сейчас не вспомню, упоминались моими врачами, но моя страховка не покрывает анализы, да и по моему полису не найти специалистов в радиусе ста миль от моего дома. Здесь не хватит места – и хватит ли когда-либо? – описать, каково это – жить с аутоиммунной болезнью. Я можем сказать, что она приносит с собой невообразимую усталость, постоянную и повсеместную боль, легкую заболеваемость и тело, которое выполняет свои «нормальные» функции чудовищно ненормально. Мой худший симптом – опоясывающий лишай. Уже десять лет как у меня лишай на одном и том же месте на спине, так что теперь у меня там повреждены нервы, что привело к постоянной жгучей боли на коже и к тупой, горящей боли в костях. Несмотря на то, что я каждый день принимаем лекарство, которое должно «подавить» вирус лишая, я все еще страдаю от него – это моя канарейка в шахте, примета того, что по меньшей мере три недели придется провести в постели.
Мой иглотерапевт описывает это как маленького демона, создающего черный дым, вспенивающего его вокруг, гнездящегося в моих костях.
Прежде чем рассказывать вам о «больной женщине» во многих её обличиях, я должны рассказать вам о себе как личности, обратиться к вам из своей особенной точки отправления.
Я противостоим той идее, что западный медицинско-страховочный индустриальный комплекс понимает меня во всей полноте, хотя они несомненно так считают. Они навешивали на меня множество ярлыков в течение многих лет, и хотя некоторые предоставили возможность для полезной артикуляции – в конечном счете, как бы мы не старались изменить мир, нам все равно приходится находить способы справляться с реалиями вокруг нас – для начала я хотели бы предложить некоторые альтернативные понимания моей «болезни».
Возможно, все дело в том, что моя Луна в Раке в 8-м доме, Доме Смерти, или в том, что мой Марс в 12-м доме, Доме Болезни, Секретов, Печали и Саморазрушения. Или можно все объяснить тем, что мать моего отца сбежала из Северной Кореи в детстве и скрывала этот факт от семьи, и только несколько лет назад она случайно проболталась об этом, но поняв это, сразу же стала отрицать. Или же тем, что моя мать страдает от не диагностированного психического заболевания, которое активно отрицается её семьей, и которое усугубляют 40-летняя история наркозависимости, сексуальная травма и гепатит от грязной иглы, по сей день не вылеченный, в то время, как она перемещается между тюрьмой, сквотами и бездомным существованием. Или тем, что я подвергались физическому и эмоциональному насилию в детстве, выросли в окружении бедности, аддикции и насилия и не общаемся с родителями 13 лет. Возможно, это потому, что я бедны – согласно Службе Внутренних Доходов, в 2014-м году, мой годовой доход составил $5,730 (результат того, что я не можем работать на полную ставку по состоянию здоровья) – что означает, что моя медицинская страховка предоставляется мне штатом Калифорния (Medi-Cal), что мой «лечащий врач» – это группа ассистентов докторов и медсестер в клинике на втором этаже торгового центра, и что мне приходится полагаться на пищевые талоны, чтобы есть. Возможно, все это можно заключить в одно слово «травма». А может быть, у меня слишком тонкая кожа, и мне просто не повезло.
Не менее важно мне ещё поделиться западной медицинской терминологией, которая была ко мне прикреплена – нравится она мне или нет, она предлагает нам общий язык. «Это язык угнетателя», – писала Эдриенн Рич в 1971-м, «но он мне необходим, чтобы говорить с вами». Но позвольте мне предложить и другой язык. В языке кри коренных американцев, существительное и глагол в предложении «Я болен» взаимодействуют отлично от английского. Вместо «I am sick», на языке кри говорят «The sickness has come to me» (Болезнь пришла ко мне). Мне очень нравится это, и я хочу отметить это здесь.
Итак, вот болезни, которые пришли ко мне.
Эндометриоз, болезнь матки, при которой внутренний маточный слой начинает расти там, где не должен – в основном в области органов таза, но и не только там, а везде, в ногах, в животе, и даже в голове. Это значит хронические боли, желудочно-кишечный хаос, чудовищные, эпические кровотечения, в некоторых случаях рак; и это значит, что у меня были выкидыши, у меня не может быть детей, и что мне предстоят несколько операций. Когда я объяснила свою болезнь подруге, которая о ней не знала, она воскликнула: «Так все твое тело – матка!». Можно и так это представить, да. (Представьте себе что сказали бы об это древнегреческие врачи – авторы теории о «блуждающей матке»). Это значит, что каждый месяц те самые непоседливые маточные клетки, засевшие в разных уголках моего тела, «следуют своей природе и истекают кровью», словами Хилари Мантел – соратницы в борьбе с эндометриозом. Это приводит к образованию кист, которые в конечном итоге разрываются, оставляя за собой комки мертвых тканей, как осколки маленьких бомб.
Биполярное расстройство, паническое расстройство и расстройство деперсонализации тоже пришли ко мне. Это значит, что я живем между этим миром и другим, созданным моим мозгом, который уже более не удерживается в своих границах четкой концепцией «самости». Благодаря этим «расстройствам», я можем испытывать невероятно яркие эмоции, полеты мысли и ландшафты фантазий, чувство, что мой разум взорвался и стал звездами, ощущение, что я стали ничем, а также исступленный восторг, упоение, печаль и кошмарные галлюцинации. Меня госпитализировали по моей воле и против нее из-за этого, и один из препаратов, который мне назначали чуть не убил меня – от него произошел редкий побочные эффект, при котором у человека отваливается кожа. Другой препарат стоит $800 в месяц – я его принимали только потому, что врач подкидывал мне бесплатные пробники. Если я хотим быть способной работать на полную ставку – чего от меня требует мир – я должны ежедневно принимать антипсихозные препараты, которые вызывают потери кратковременной памяти и неконтролируемое слюнотечение, среди других сексуальных побочек. Эти визитеры приводили с собой друзей: нервные срывы, психические коллапсы, или как там еще хотите их назвать, три раза в моей жизни. Я точно знаем, что они еще будут гостить в моем доме. Они смотивировали попытки самоубийства (большая часть из них в состоянии диссоциации) более дюжины раз, впервые когда мне было девять лет. Та первая попытка не сработала, только потому что приняв пригоршню таблеток снотворного, каким-то образом я проснулись следующим утром и пошли в школу, как ни в чем ни бывало. Я никому не рассказывали об этом до моего первого психиатрического освидетельствования в двадцать с лишним лет.
И наконец, аутоиммунное заболевание, ставящее в тупик всех моих врачей, пришло ко мне и пока еще отказывается быть названным. Как написала Каролин Лазард о своем опыте с аутоиммунными болезнями: «Аутоиммунные расстройства трудно диагностировать. Между первыми симптомами и диагнозом анкилозирующего спондилоартрита в среднем проходит от восьми до двенадцати лет». Имена вроде «множественный склероз», «фибромиалгия» и другие, которых я сейчас не вспомню, упоминались моими врачами, но моя страховка не покрывает анализы, да и по моему полису не найти специалистов в радиусе ста миль от моего дома. Здесь не хватит места – и хватит ли когда-либо? – описать, каково это – жить с аутоиммунной болезнью. Я можем сказать, что она приносит с собой невообразимую усталость, постоянную и повсеместную боль, легкую заболеваемость и тело, которое выполняет свои «нормальные» функции чудовищно ненормально. Мой худший симптом – опоясывающий лишай. Уже десять лет как у меня лишай на одном и том же месте на спине, так что теперь у меня там повреждены нервы, что привело к постоянной жгучей боли на коже и к тупой, горящей боли в костях. Несмотря на то, что я каждый день принимаем лекарство, которое должно «подавить» вирус лишая, я все еще страдаю от него – это моя канарейка в шахте, примета того, что по меньшей мере три недели придется провести в постели.
Мой иглотерапевт описывает это как маленького демона, создающего черный дым, вспенивающего его вокруг, гнездящегося в моих костях.
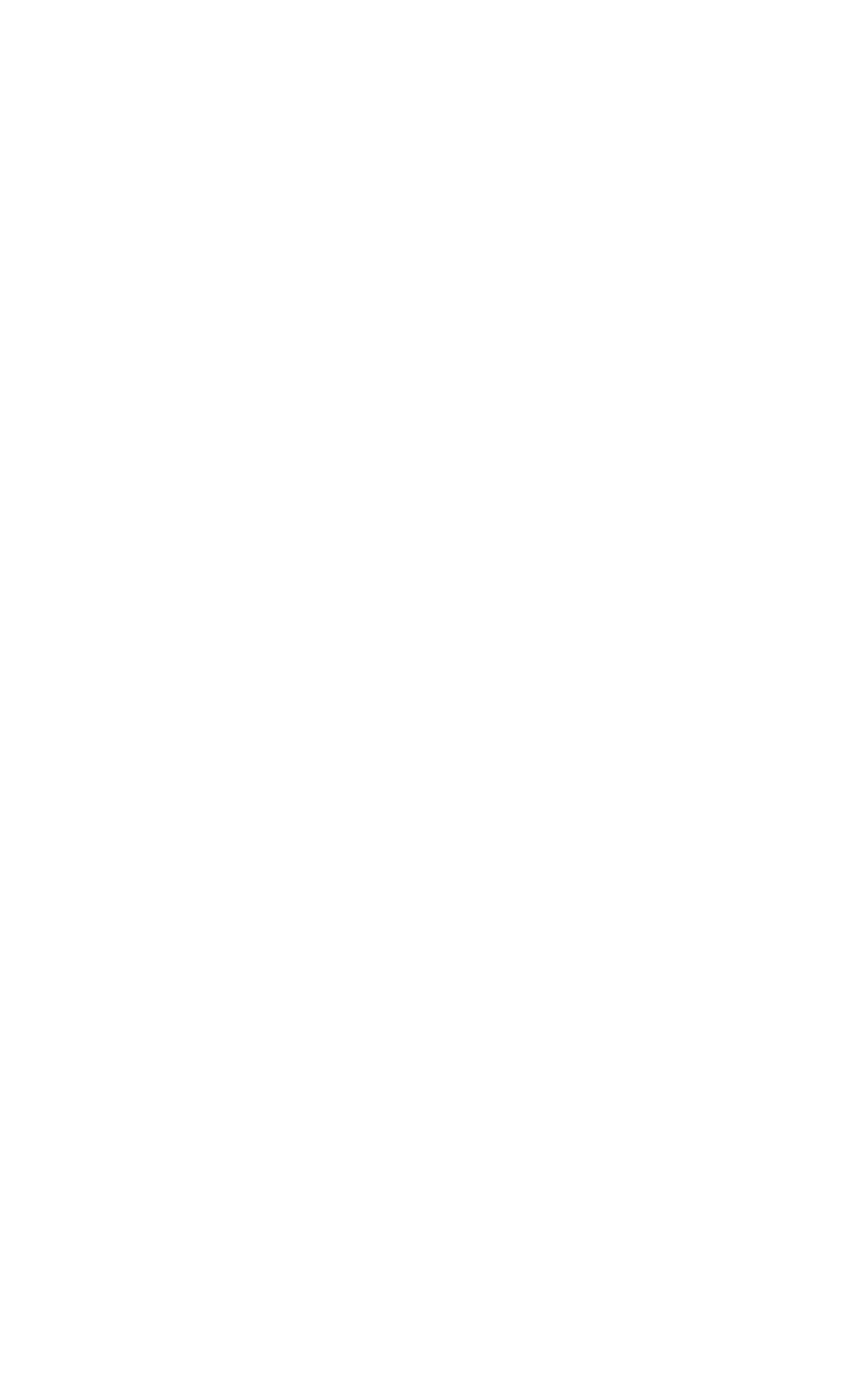
4.
Несмотря на всех этих гостей, я начали писать Теорию Больной Женщины, чтобы выжить в невыносимой реальности и свидетельствовать о «себе», которое с трудом признается как «свое».
Ранние изыскания для проекта «Теория Больной Женщины» и то, как он получил свое имя, сводятся к нескольким источникам. Одним из них была «Теория грустной девушки» (Sad Girl Theory) Одри Уоллен, которая предлагает переозначить исторически «женские» патологии как модус политического протеста для девочек и девушек. Я были в основном заинтригованы вопросом о том, что происходит с грустной девушкой, когда – если – она вырастает. Другим источником была фантастическая книга Кейт Забрено «Героини» – я почувствовали зуд проблематизировать (fuck with) концепцию героизма вообще, и я хотели предложить фигуру, наделенную традиционно анти-героическими качествами – а именно болезнями, бездельем и бездействием – как символ новой гранд-теории. И еще одним источником стала феминистская книга 1973 года «Жалобы и расстройства» (Complaints and Disorders), в которой обозначена разница между «больной женщиной» («sick woman») белого высшего класса и «тошнотворными женщинами» («sickening women») небелого рабочего класса.
Теория Больной Женщины – для тех, кто сталкивается со своей уязвимостью и невыносимой хрупкостью каждый день, и кому приходится бороться за то, чтобы их опыт был не только признан с уважением, но и в первую очередь стал видим. Для тех, кто, как сказала Одри Лорд, не должны были выжить: потому что этот мир был построен чтобы они не выжили. Она для моих товарок-спуни [2]. Вы знаете кто вы, даже если у вас нет диагноза: одна из целей ТБЖ – оказать сопротивление идее, что вам необходима легитимация институтов, с тем чтобы они попытались вас исправить. Вас не нужно исправлять, мои королевы – исправлять нужно мир.
Я предлагаем этот текст как призыв к оружию и свидетельство признания. Я надеемся, что мои мысли смогут предложить вам артикуляцию и резонанс, а также инструменты для выживания и стойкости.
А тех из вас, кто не имеет хронических заболеваний или инвалидности, ТБЖ просит попрактиковать эмпатию. Повернитесь к нам лицом, выслушайте, увидьте.
Несмотря на всех этих гостей, я начали писать Теорию Больной Женщины, чтобы выжить в невыносимой реальности и свидетельствовать о «себе», которое с трудом признается как «свое».
Ранние изыскания для проекта «Теория Больной Женщины» и то, как он получил свое имя, сводятся к нескольким источникам. Одним из них была «Теория грустной девушки» (Sad Girl Theory) Одри Уоллен, которая предлагает переозначить исторически «женские» патологии как модус политического протеста для девочек и девушек. Я были в основном заинтригованы вопросом о том, что происходит с грустной девушкой, когда – если – она вырастает. Другим источником была фантастическая книга Кейт Забрено «Героини» – я почувствовали зуд проблематизировать (fuck with) концепцию героизма вообще, и я хотели предложить фигуру, наделенную традиционно анти-героическими качествами – а именно болезнями, бездельем и бездействием – как символ новой гранд-теории. И еще одним источником стала феминистская книга 1973 года «Жалобы и расстройства» (Complaints and Disorders), в которой обозначена разница между «больной женщиной» («sick woman») белого высшего класса и «тошнотворными женщинами» («sickening women») небелого рабочего класса.
Теория Больной Женщины – для тех, кто сталкивается со своей уязвимостью и невыносимой хрупкостью каждый день, и кому приходится бороться за то, чтобы их опыт был не только признан с уважением, но и в первую очередь стал видим. Для тех, кто, как сказала Одри Лорд, не должны были выжить: потому что этот мир был построен чтобы они не выжили. Она для моих товарок-спуни [2]. Вы знаете кто вы, даже если у вас нет диагноза: одна из целей ТБЖ – оказать сопротивление идее, что вам необходима легитимация институтов, с тем чтобы они попытались вас исправить. Вас не нужно исправлять, мои королевы – исправлять нужно мир.
Я предлагаем этот текст как призыв к оружию и свидетельство признания. Я надеемся, что мои мысли смогут предложить вам артикуляцию и резонанс, а также инструменты для выживания и стойкости.
А тех из вас, кто не имеет хронических заболеваний или инвалидности, ТБЖ просит попрактиковать эмпатию. Повернитесь к нам лицом, выслушайте, увидьте.

5.
Теория Больной Женщины настаивает, что большинство модусов политического протеста интернализованы, проживаются телом, страданиями и без сомнения невидимы. ТБЖ переопределяет существование в теле как всегда и в первую очередь уязвимое, следуя за работой Джудит Батлер о прекарности и сопротивлении. Так как наша предпосылка настаивает на том, что тело определяется его уязвимостью, а не подвергнуто ей временно, то отсюда следует, что тело постоянно зависит от инфраструктур поддержки для его выживания, и что мы должны перекроить мир вокруг этого факта. ТБЖ утверждает, что тело и разум чувствительны к и реагируют на режимы угнетения – в особенности наш настоящий режим неолиберального, расистского, имперско-капиталистического цис-гетеро-патриархата. Наши тела и умы постоянно носят в себе эти исторические травмы, и это сам этот мир приводит к нашим болезням.
Использовать термин «женщина» как субъектную позицию в этой работе было стратегическим решением, всеохватывающим посвящением и принятием партикулярного, а не универсального. Хотя идентичность «женщина» в прошлом использовалась для исключения многих (в особенности небелых женщин, транс- и гендерно-текучих людей), я выбрали использовать его потому как оно до сих пор представляет всех лишенных заботы, вторичных, угнетенных, всех недо-, квази- и не-. Проблематичность термина требует его постоянной критики, и я надеемся, что ТБЖ в какой-то мере поможет добиться этого. Но более чем что-либо я были вдохновлены использовать слово «женщина», потому что увидели в этом году, что в XXI веке все еще может быть радикально являться женщиной. Я использую его из уважения к другу, которая сделала каминг-аут как гендер-флюид в прошлом году. Для неё самым важным была возможность называться «женщиной» и использовать местоимения «она/её». Она не хотела операций или гормонов; она любит свое тело и свой большой член и не хотела его менять – она только хотела слово. И потому что само слово может придавать сил, Теория Больной Женщины получила свое имя.
Больная Женщина – это идентичность и тело, которое может принадлежать любому, кому отказывают в праве на существование – или праве на жестоко-оптимистичное обещание существования – белого, гетеросексуального, здорового, нейротипичного цис-мужчины высшего или среднего класса без инвалидности, живущего в богатой стране, у которого никогда не было момента в жизни, когда у него не было медицинской страховки, и чья важность в обществе всеми признана и очень четко обозначена; забота о нем и поддержание его привилегий являются доминирующими задачами общества за счет всех остальных групп.
Больная Женщина – это каждая, у кого нет гарантии, что о них позаботятся.
Больной Женщине говорят, что в этом обществе забота о ней, даже её выживание, не имеет значения.
Больная Женщина – это все «дисфункциональные», «опасные» и «находящиеся в опасности», «не умеющие себя вести», «ненормальные», «неизлечимые», «травмированные», «беспорядочные», «больные», «хронические», «не подлежащие страхованию», «несчастные», «нежеланные» и вообще нефункционирующие тела, принадлежащие женщинам, небелым людям, бедным, больным, нейро-отличным, людям с ограниченными возможностями, квирам, транс-людям и гендерно-текучим людям – тем, кого исторически патологизировали, госпитализировали, институционализировали, обращались жестоко, называли «неуправляемыми» и, следовательно, делали культурно нелегитимными и политически невидимыми.
Больная Женщина – это черная транс-женщина, у которой случается паническая атака в общественном туалете, так она боится насилия, которое над ней там совершат.
Больная Женщина – это ребенок родителей коренного народа, чьи истории были стерты, страдающий от межпоколенческой травмы колонизации и насилия.
Больная Женщина – это бездомный человек, особенно тот, кто болеет и не имеет доступа ни к какому лечению, и кто может получить психологическую помощь только если их положат в областную психбольницу на 72 часа.
Больная Женщина – это черная женщина с психиатрическим диагнозом, чья семья вызвала полицию, чтобы те помогли во время ее приступа, которая была убита полицейскими, чья история будет отрицаться всеми по расистским мотивам. Её звали Танеша Андерсон.
Больная Женщина – это 50-летний гей, которого в подростковом возрасте изнасиловали и который сохраняет молчание в стыде, потому что верит, что мужчин нельзя изнасиловать.
Больная Женщина – это персона с инвалидностью, которая не может пойти на лекцию по правам людей с инвалидностью, потому что лекция проводится в недоступном месте.
Больная Женщина – это белая женщина с хроническим заболеванием, корни которого в сексуальной травме, которой приходится принимать болеутоляющее, чтобы выбраться из постели.
Больная Женщина – это гетеросексуальный мужчина с депрессией, находящийся на медикаментозном лечении с раннего подросткового возраста, который теперь с трудом работает те 60 часов в неделю, которые требует от него его работа.
Больная Женщина – это некто с хроническим заболеванием, семья и друзья которых постоянно говорят им, что им нужно больше заниматься спортом.
Больная Женщина – это негетеросексуальная гендерно-неконформная небелая женщина, чей активизм, интеллект, ярость и депрессия видятся белому обществу как несимпатичные свойства ее характера.
Больная Женщина – это черный мужчина, убитый полицейскими, которые официально заявляют, что он сам сломал себе спину. Его звали Фредди Грей.
Больная Женщина - это ветеран войны страдающий от ПТСР, которому приходится месяц ждать, чтобы поговорить с врачом в Ассоциации Ветеранов.
Больная Женщина – это одинокая мать, нелегально эмигрировавшая в «свободный край», разрывающаяся между тремя работами, чтобы прокормить свою семью, которой все сложнее дышать.
Больная Женщина – беженка.
Больная Женщина – ребенок, которого бьют.
Больная Женщина – человек с аутизмом, которого мир пытается «излечить».
Больная Женщина – все голодные.
Больная Женщина – это умирающие.
И, главное: Больная Женщина – это тот человек, который необходим капитализму для того, чтобы продолжать существовать.
Почему?
Потому что для того, чтобы продолжать существовать, капитализм не может нести ответственность за заботу о нас – логика эксплуатации требует, чтобы некоторые из нас погибли.
«Болезнь» в том смысле, как мы сегодня используем это слово – капиталистический конструкт, так же как и его противоположность – «здоровье». «Здоровый» человек – это тот, кто может пойти на работу. «Больной» человек – тот, кто не может. Самое разрушительное последствие подобного представления о здоровье как о базовом состоянии по умолчанию, как стандарту существования – это то, что болезнь представляется временной. Когда болезнь – это отклонение от нормы, это позволяет нам представлять, что забота и поддержка тоже временны.
В этой конфигурации, забота необходима только иногда. Когда болезнь – временное явление, забота оказывается вне нормы.
Попробуйте такое упражнение: подойдите к зеркалу, посмотрите в свое лицо и скажите громко: «Заботиться о тебе – это ненормально. Я могу это делать только временно».
Сказать это себе – всего лишь повторить то, что мир неустанно говорит нам.
Теория Больной Женщины настаивает, что большинство модусов политического протеста интернализованы, проживаются телом, страданиями и без сомнения невидимы. ТБЖ переопределяет существование в теле как всегда и в первую очередь уязвимое, следуя за работой Джудит Батлер о прекарности и сопротивлении. Так как наша предпосылка настаивает на том, что тело определяется его уязвимостью, а не подвергнуто ей временно, то отсюда следует, что тело постоянно зависит от инфраструктур поддержки для его выживания, и что мы должны перекроить мир вокруг этого факта. ТБЖ утверждает, что тело и разум чувствительны к и реагируют на режимы угнетения – в особенности наш настоящий режим неолиберального, расистского, имперско-капиталистического цис-гетеро-патриархата. Наши тела и умы постоянно носят в себе эти исторические травмы, и это сам этот мир приводит к нашим болезням.
Использовать термин «женщина» как субъектную позицию в этой работе было стратегическим решением, всеохватывающим посвящением и принятием партикулярного, а не универсального. Хотя идентичность «женщина» в прошлом использовалась для исключения многих (в особенности небелых женщин, транс- и гендерно-текучих людей), я выбрали использовать его потому как оно до сих пор представляет всех лишенных заботы, вторичных, угнетенных, всех недо-, квази- и не-. Проблематичность термина требует его постоянной критики, и я надеемся, что ТБЖ в какой-то мере поможет добиться этого. Но более чем что-либо я были вдохновлены использовать слово «женщина», потому что увидели в этом году, что в XXI веке все еще может быть радикально являться женщиной. Я использую его из уважения к другу, которая сделала каминг-аут как гендер-флюид в прошлом году. Для неё самым важным была возможность называться «женщиной» и использовать местоимения «она/её». Она не хотела операций или гормонов; она любит свое тело и свой большой член и не хотела его менять – она только хотела слово. И потому что само слово может придавать сил, Теория Больной Женщины получила свое имя.
Больная Женщина – это идентичность и тело, которое может принадлежать любому, кому отказывают в праве на существование – или праве на жестоко-оптимистичное обещание существования – белого, гетеросексуального, здорового, нейротипичного цис-мужчины высшего или среднего класса без инвалидности, живущего в богатой стране, у которого никогда не было момента в жизни, когда у него не было медицинской страховки, и чья важность в обществе всеми признана и очень четко обозначена; забота о нем и поддержание его привилегий являются доминирующими задачами общества за счет всех остальных групп.
Больная Женщина – это каждая, у кого нет гарантии, что о них позаботятся.
Больной Женщине говорят, что в этом обществе забота о ней, даже её выживание, не имеет значения.
Больная Женщина – это все «дисфункциональные», «опасные» и «находящиеся в опасности», «не умеющие себя вести», «ненормальные», «неизлечимые», «травмированные», «беспорядочные», «больные», «хронические», «не подлежащие страхованию», «несчастные», «нежеланные» и вообще нефункционирующие тела, принадлежащие женщинам, небелым людям, бедным, больным, нейро-отличным, людям с ограниченными возможностями, квирам, транс-людям и гендерно-текучим людям – тем, кого исторически патологизировали, госпитализировали, институционализировали, обращались жестоко, называли «неуправляемыми» и, следовательно, делали культурно нелегитимными и политически невидимыми.
Больная Женщина – это черная транс-женщина, у которой случается паническая атака в общественном туалете, так она боится насилия, которое над ней там совершат.
Больная Женщина – это ребенок родителей коренного народа, чьи истории были стерты, страдающий от межпоколенческой травмы колонизации и насилия.
Больная Женщина – это бездомный человек, особенно тот, кто болеет и не имеет доступа ни к какому лечению, и кто может получить психологическую помощь только если их положат в областную психбольницу на 72 часа.
Больная Женщина – это черная женщина с психиатрическим диагнозом, чья семья вызвала полицию, чтобы те помогли во время ее приступа, которая была убита полицейскими, чья история будет отрицаться всеми по расистским мотивам. Её звали Танеша Андерсон.
Больная Женщина – это 50-летний гей, которого в подростковом возрасте изнасиловали и который сохраняет молчание в стыде, потому что верит, что мужчин нельзя изнасиловать.
Больная Женщина – это персона с инвалидностью, которая не может пойти на лекцию по правам людей с инвалидностью, потому что лекция проводится в недоступном месте.
Больная Женщина – это белая женщина с хроническим заболеванием, корни которого в сексуальной травме, которой приходится принимать болеутоляющее, чтобы выбраться из постели.
Больная Женщина – это гетеросексуальный мужчина с депрессией, находящийся на медикаментозном лечении с раннего подросткового возраста, который теперь с трудом работает те 60 часов в неделю, которые требует от него его работа.
Больная Женщина – это некто с хроническим заболеванием, семья и друзья которых постоянно говорят им, что им нужно больше заниматься спортом.
Больная Женщина – это негетеросексуальная гендерно-неконформная небелая женщина, чей активизм, интеллект, ярость и депрессия видятся белому обществу как несимпатичные свойства ее характера.
Больная Женщина – это черный мужчина, убитый полицейскими, которые официально заявляют, что он сам сломал себе спину. Его звали Фредди Грей.
Больная Женщина - это ветеран войны страдающий от ПТСР, которому приходится месяц ждать, чтобы поговорить с врачом в Ассоциации Ветеранов.
Больная Женщина – это одинокая мать, нелегально эмигрировавшая в «свободный край», разрывающаяся между тремя работами, чтобы прокормить свою семью, которой все сложнее дышать.
Больная Женщина – беженка.
Больная Женщина – ребенок, которого бьют.
Больная Женщина – человек с аутизмом, которого мир пытается «излечить».
Больная Женщина – все голодные.
Больная Женщина – это умирающие.
И, главное: Больная Женщина – это тот человек, который необходим капитализму для того, чтобы продолжать существовать.
Почему?
Потому что для того, чтобы продолжать существовать, капитализм не может нести ответственность за заботу о нас – логика эксплуатации требует, чтобы некоторые из нас погибли.
«Болезнь» в том смысле, как мы сегодня используем это слово – капиталистический конструкт, так же как и его противоположность – «здоровье». «Здоровый» человек – это тот, кто может пойти на работу. «Больной» человек – тот, кто не может. Самое разрушительное последствие подобного представления о здоровье как о базовом состоянии по умолчанию, как стандарту существования – это то, что болезнь представляется временной. Когда болезнь – это отклонение от нормы, это позволяет нам представлять, что забота и поддержка тоже временны.
В этой конфигурации, забота необходима только иногда. Когда болезнь – временное явление, забота оказывается вне нормы.
Попробуйте такое упражнение: подойдите к зеркалу, посмотрите в свое лицо и скажите громко: «Заботиться о тебе – это ненормально. Я могу это делать только временно».
Сказать это себе – всего лишь повторить то, что мир неустанно говорит нам.
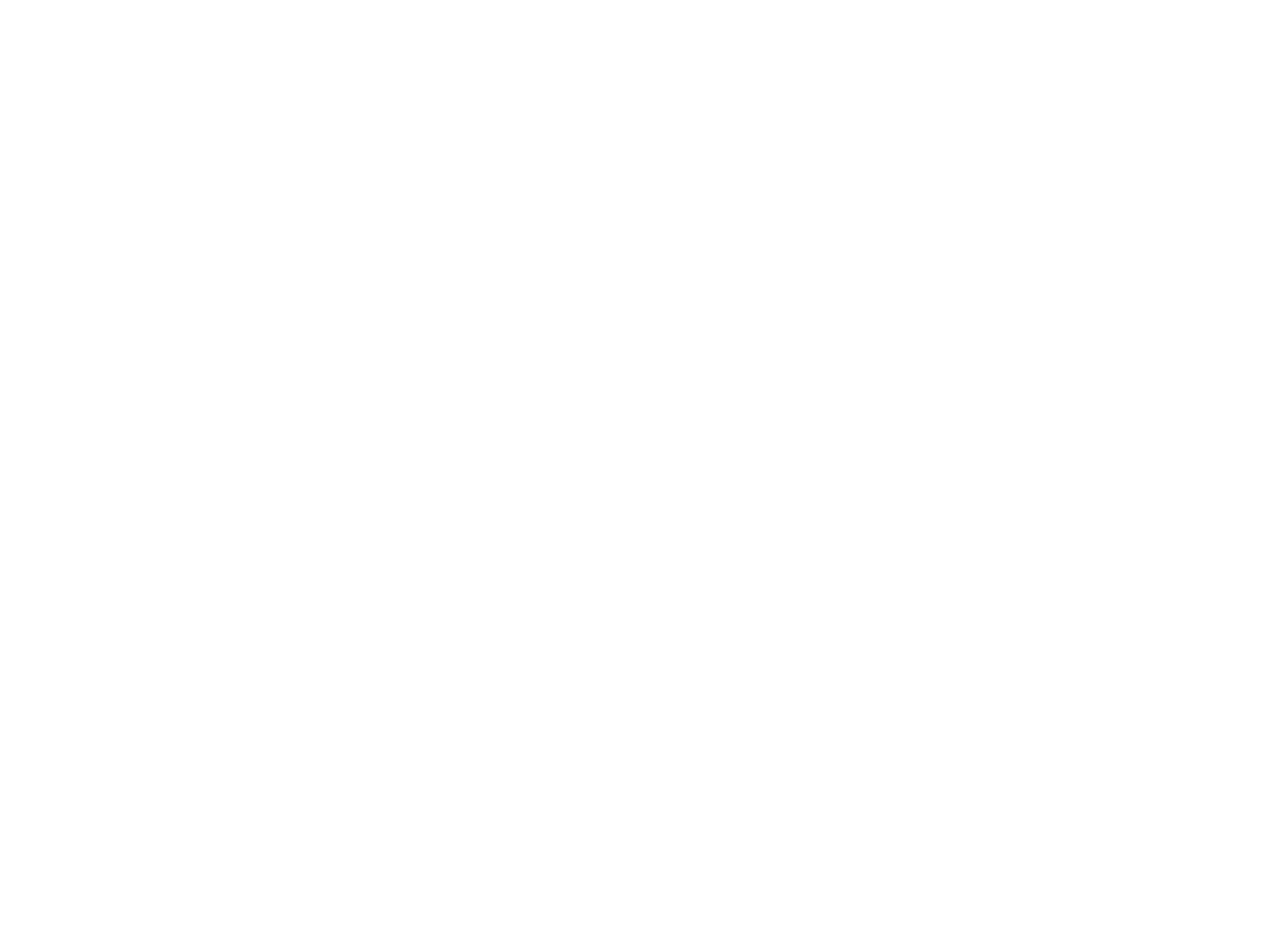
6.
Я раньше думали, что самые анти-капиталистические жесты, которые остались нам доступны, связаны с любовью, в особенности любовной поэзией: написать любовные стихи и подарить их тому, кого желаешь, казалось мне радикальным сопротивлением. Но сейчас я осознаем, что были неправы.
Самый антикапиталистический протест – это заботиться о другом и о себе. Взять на себя исторически «женский», а значит и невидимый труд по уходу за больными, заботе, вскармливанию. Серьезно отнестись к уязвимости, хрупкости и прекарности, и поддержать друг друга, уважать, находить силу в слабости. Защищать друг друга, создавать и практиковать сообщество. Радикальное родство, взаимозависимая социальность, политика заботы.
Потому что когда мы все больны и не можем встать с постели, делясь с друг другом историями лечения и утешения, формируя группы взаимоподдержки, узнавая истории травм других, отдавая приоритет заботе и любви к нашим больным, дорогим, чувствительным, фантастическим телам, и никого не останется, кто пойдет на работу, возможно тогда, наконец-то, капитализм со скрипом и скрежетом остановится и сдохнет.
Я раньше думали, что самые анти-капиталистические жесты, которые остались нам доступны, связаны с любовью, в особенности любовной поэзией: написать любовные стихи и подарить их тому, кого желаешь, казалось мне радикальным сопротивлением. Но сейчас я осознаем, что были неправы.
Самый антикапиталистический протест – это заботиться о другом и о себе. Взять на себя исторически «женский», а значит и невидимый труд по уходу за больными, заботе, вскармливанию. Серьезно отнестись к уязвимости, хрупкости и прекарности, и поддержать друг друга, уважать, находить силу в слабости. Защищать друг друга, создавать и практиковать сообщество. Радикальное родство, взаимозависимая социальность, политика заботы.
Потому что когда мы все больны и не можем встать с постели, делясь с друг другом историями лечения и утешения, формируя группы взаимоподдержки, узнавая истории травм других, отдавая приоритет заботе и любви к нашим больным, дорогим, чувствительным, фантастическим телам, и никого не останется, кто пойдет на работу, возможно тогда, наконец-то, капитализм со скрипом и скрежетом остановится и сдохнет.
Этот текст был адаптирован из лекции «Мое тело – тюрьма боли, и я хочу его покинуть как мистик, но я люблю его и хочу, чтобы оно имело политическое значение», спонсированной Женским Центром для Творчества, которая прошла в Лос-Анджелесе 7 октября 2015 года.
Black Lives Matter («Черные Жизни Имеют Ценность») – движение против расизма, полицейского произвола и насилия против афро-американцев и других небелых американцев. Движение было создано в 2013 году как реакция на оправдательный приговор убийце Трейвона Мартина.
Spoonie/спуни (от английского слова spoon – ложка) – человек с хроническим заболеванием и/или инвалидностью. Слово произошло от «теории ложек», предложенной Кристин Мизерандино, как полезной метафоры жизни с хроническим, психическим заболеванием и/или инвалидностью, где ложки представляют ограниченные энергетические и эмоциональные ресурсы, которые каждому человеку с хронической болезнью/инвалидностью приходится расходовать с осторожностью.
Мохира Суяркулова – недисциплинированная исследовательница, активистка (Бишкек).
Надя Саяпина (Беларусь) – художница, авторка проектов, арт-тьюторка. Художественные практики включают перформанс, мультимедиа, инсталляции, лэнд-арт, живопись, текст. Исследует медиацию в искусстве через призму перформативных практик и процессуальности. Обращается к темам телесности, саморефлексии, памяти, феминистской повестке. Почта: artistgsna@gmail.com.
Олеся Войтова - филологиня (Бишкек).
sick woman theory
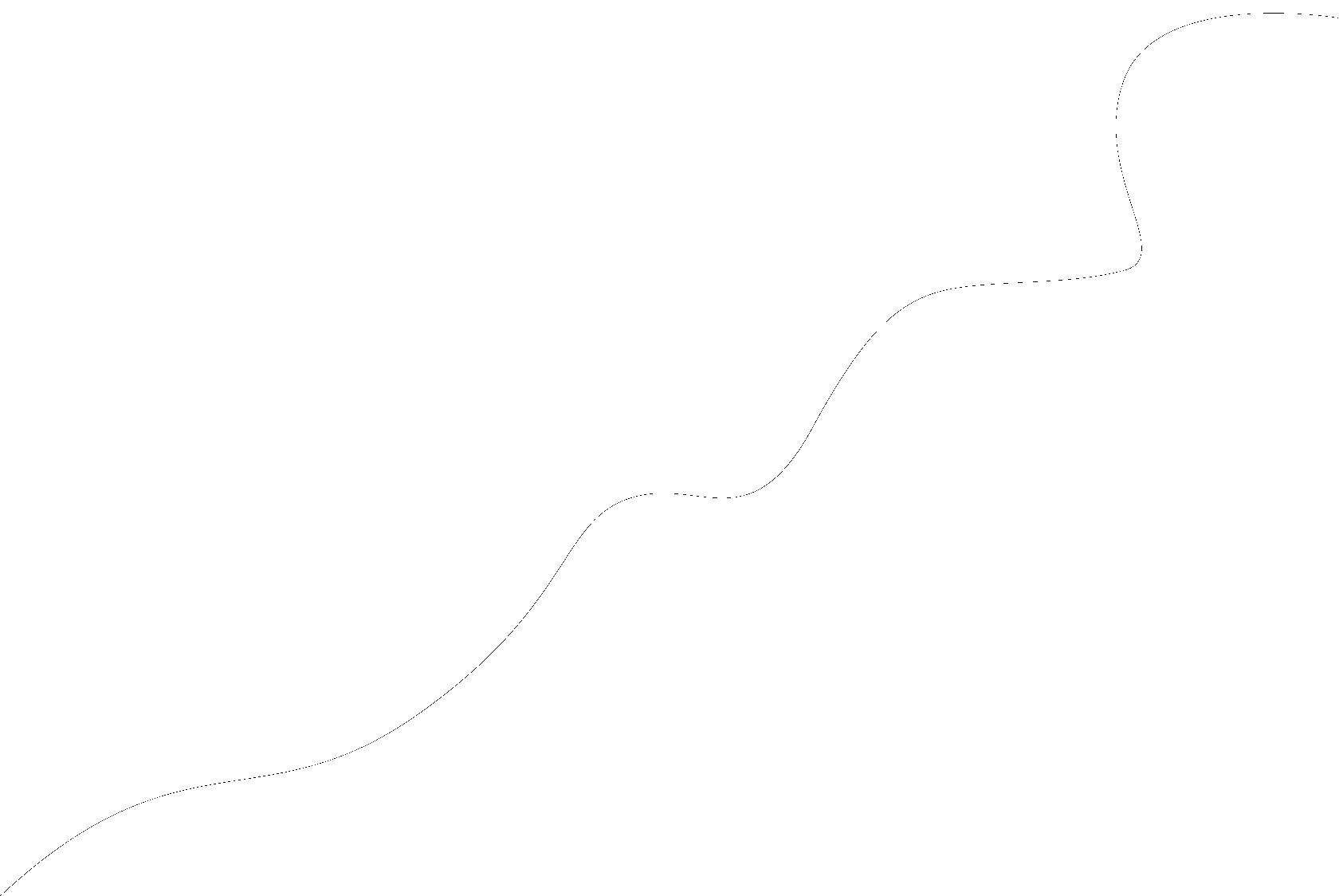
johanna hedva lives with chronic illness and their sick woman theory is for those who were never meant to survive but did
The original version of the text is to be found on the website of johanna hedva
Illustrations: Nadya Sayapina
The original version of the text is to be found on the website of johanna hedva
Illustrations: Nadya Sayapina
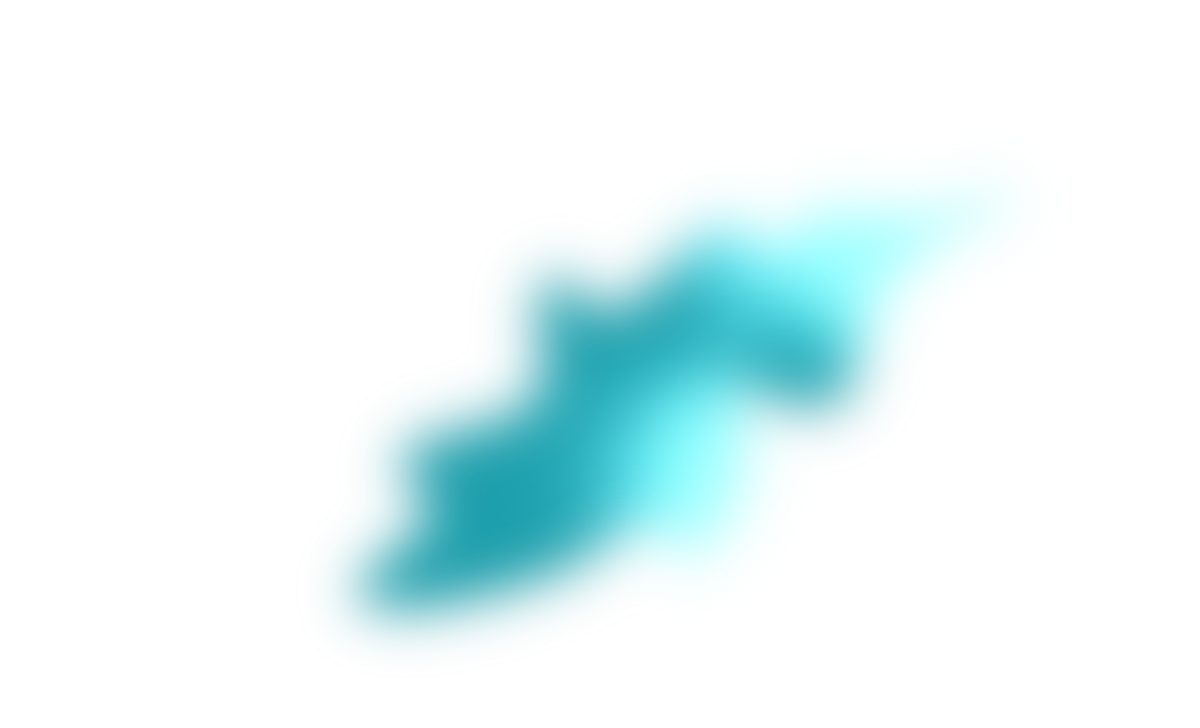
tags: Queer/crip, Activism, Disability, Art, Queer, Cyberfeminism, Cyborgs, Pride, Utopia
1.
In late 2014, I was sick with a chronic condition that, about every 12 to 18 months, gets bad enough to render me, for about five months each time, unable to walk, drive, do my job, sometimes speak or understand language, take a bath without assistance, and leave the bed. This particular flare coincided with the Black Lives Matter protests, which I would have attended unremittingly, had I been able to. I live one block away from MacArthur Park in Los Angeles, a predominantly Latino neighborhood and one colloquially understood to be the place where many immigrants begin their American lives. The park, then, is not surprisingly one of the most active places of protest in the city.
I listened to the sounds of the marches as they drifted up to my window. Attached to the bed, I rose up my sick woman fist, in solidarity.
I started to think about what modes of protest are afforded to sick people – it seemed to me that many for whom Black Lives Matter is especially in service, might not be able to be present for the marches because they were imprisoned by a job, the threat of being fired from their job if they marched, or literal incarceration, and of course the threat of violence and police brutality – but also because of illness or disability, or because they were caring for someone with an illness or disability.
I thought of all the other invisible bodies, with their fists up, tucked away and out of sight.
If we take Hannah Arendt’s definition of the political – which is still one of the most dominant in mainstream discourse – as being any action that is performed in public, we must contend with the implications of what that excludes. If being present in public is what is required to be political, then whole swathes of the population can be deemed a-political – simply because they are not physically able to get their bodies into the street.
In my graduate program, Arendt was a kind of god, and so I was trained to think that her definition of the political was radically liberating. Of course, I can see that it was, in its own way, in its time (the late 1950s): in one fell swoop she got rid of the need for infrastructures of law, the democratic process of voting, the reliance on individuals who’ve accumulated the power to affect policy – she got rid of the need for policy at all. All of these had been required for an action to be considered political and visible as such. No, Arendt said, just get your body into the street, and bam: political.
There are two failures here, though. The first is her reliance on a “public” – which requires a private, a binary between visible and invisible space. This meant that whatever takes place in private is not political. So, you can beat your wife in private and it doesn’t matter, for instance. You can send private emails containing racial slurs, but since they weren’t “meant for the public,” you are somehow not racist. Arendt was worried that if everything can be considered political, then nothing will be, which is why she divided the space into one that is political and one that is not. But for the sake of this anxiety, she chose to sacrifice whole groups of people, to continue to banish them to invisibility and political irrelevance. She chose to keep them out of the public sphere. I’m not the first to take Arendt to task for this. The failure of Arendt’s political was immediately exposed in the civil rights activism and feminism of the 1960s and 70s. “The personal is political” can also be read as saying “the private is political.” Because of course, everything you do in private is political: who you have sex with, how long your showers are, if you have access to clean water for a shower at all, and so on.
There is another problem too. As Judith Butler put it in her 2015 lecture, “Vulnerability and Resistance,” Arendt failed to account for who is allowed in to the public space, of who’s in charge of the public. Or, more specifically, who’s in charge of who gets in. Butler says that there is always one thing true about a public demonstration: the police are already there, or they are coming. This resonates with frightening force when considering the context of Black Lives Matter. The inevitability of violence at a demonstration – especially a demonstration that emerged to insist upon the importance of bodies who’ve been violently un-cared for – ensures that a certain amount of people won’t, because they can’t, show up. Couple this with physical and mental illnesses and disabilities that keep people in bed and at home, and we must contend with the fact that many whom these protests are for, are not able to participate in them – which means they are not able to be visible as political activists.
There was a Tumblr post that came across my dash during these weeks of protest, that said something to the effect of: “shout out to all the disabled people, sick people, people with PTSD, anxiety, etc., who can’t protest in the streets with us tonight. Your voices are heard and valued, and with us.” Heart. Reblog.
So, as I lay there, unable to march, hold up a sign, shout a slogan that would be heard, or be visible in any traditional capacity as a political being, the central question of Sick Woman Theory formed: How do you throw a brick through the window of a bank if you can’t get out of bed?
In late 2014, I was sick with a chronic condition that, about every 12 to 18 months, gets bad enough to render me, for about five months each time, unable to walk, drive, do my job, sometimes speak or understand language, take a bath without assistance, and leave the bed. This particular flare coincided with the Black Lives Matter protests, which I would have attended unremittingly, had I been able to. I live one block away from MacArthur Park in Los Angeles, a predominantly Latino neighborhood and one colloquially understood to be the place where many immigrants begin their American lives. The park, then, is not surprisingly one of the most active places of protest in the city.
I listened to the sounds of the marches as they drifted up to my window. Attached to the bed, I rose up my sick woman fist, in solidarity.
I started to think about what modes of protest are afforded to sick people – it seemed to me that many for whom Black Lives Matter is especially in service, might not be able to be present for the marches because they were imprisoned by a job, the threat of being fired from their job if they marched, or literal incarceration, and of course the threat of violence and police brutality – but also because of illness or disability, or because they were caring for someone with an illness or disability.
I thought of all the other invisible bodies, with their fists up, tucked away and out of sight.
If we take Hannah Arendt’s definition of the political – which is still one of the most dominant in mainstream discourse – as being any action that is performed in public, we must contend with the implications of what that excludes. If being present in public is what is required to be political, then whole swathes of the population can be deemed a-political – simply because they are not physically able to get their bodies into the street.
In my graduate program, Arendt was a kind of god, and so I was trained to think that her definition of the political was radically liberating. Of course, I can see that it was, in its own way, in its time (the late 1950s): in one fell swoop she got rid of the need for infrastructures of law, the democratic process of voting, the reliance on individuals who’ve accumulated the power to affect policy – she got rid of the need for policy at all. All of these had been required for an action to be considered political and visible as such. No, Arendt said, just get your body into the street, and bam: political.
There are two failures here, though. The first is her reliance on a “public” – which requires a private, a binary between visible and invisible space. This meant that whatever takes place in private is not political. So, you can beat your wife in private and it doesn’t matter, for instance. You can send private emails containing racial slurs, but since they weren’t “meant for the public,” you are somehow not racist. Arendt was worried that if everything can be considered political, then nothing will be, which is why she divided the space into one that is political and one that is not. But for the sake of this anxiety, she chose to sacrifice whole groups of people, to continue to banish them to invisibility and political irrelevance. She chose to keep them out of the public sphere. I’m not the first to take Arendt to task for this. The failure of Arendt’s political was immediately exposed in the civil rights activism and feminism of the 1960s and 70s. “The personal is political” can also be read as saying “the private is political.” Because of course, everything you do in private is political: who you have sex with, how long your showers are, if you have access to clean water for a shower at all, and so on.
There is another problem too. As Judith Butler put it in her 2015 lecture, “Vulnerability and Resistance,” Arendt failed to account for who is allowed in to the public space, of who’s in charge of the public. Or, more specifically, who’s in charge of who gets in. Butler says that there is always one thing true about a public demonstration: the police are already there, or they are coming. This resonates with frightening force when considering the context of Black Lives Matter. The inevitability of violence at a demonstration – especially a demonstration that emerged to insist upon the importance of bodies who’ve been violently un-cared for – ensures that a certain amount of people won’t, because they can’t, show up. Couple this with physical and mental illnesses and disabilities that keep people in bed and at home, and we must contend with the fact that many whom these protests are for, are not able to participate in them – which means they are not able to be visible as political activists.
There was a Tumblr post that came across my dash during these weeks of protest, that said something to the effect of: “shout out to all the disabled people, sick people, people with PTSD, anxiety, etc., who can’t protest in the streets with us tonight. Your voices are heard and valued, and with us.” Heart. Reblog.
So, as I lay there, unable to march, hold up a sign, shout a slogan that would be heard, or be visible in any traditional capacity as a political being, the central question of Sick Woman Theory formed: How do you throw a brick through the window of a bank if you can’t get out of bed?
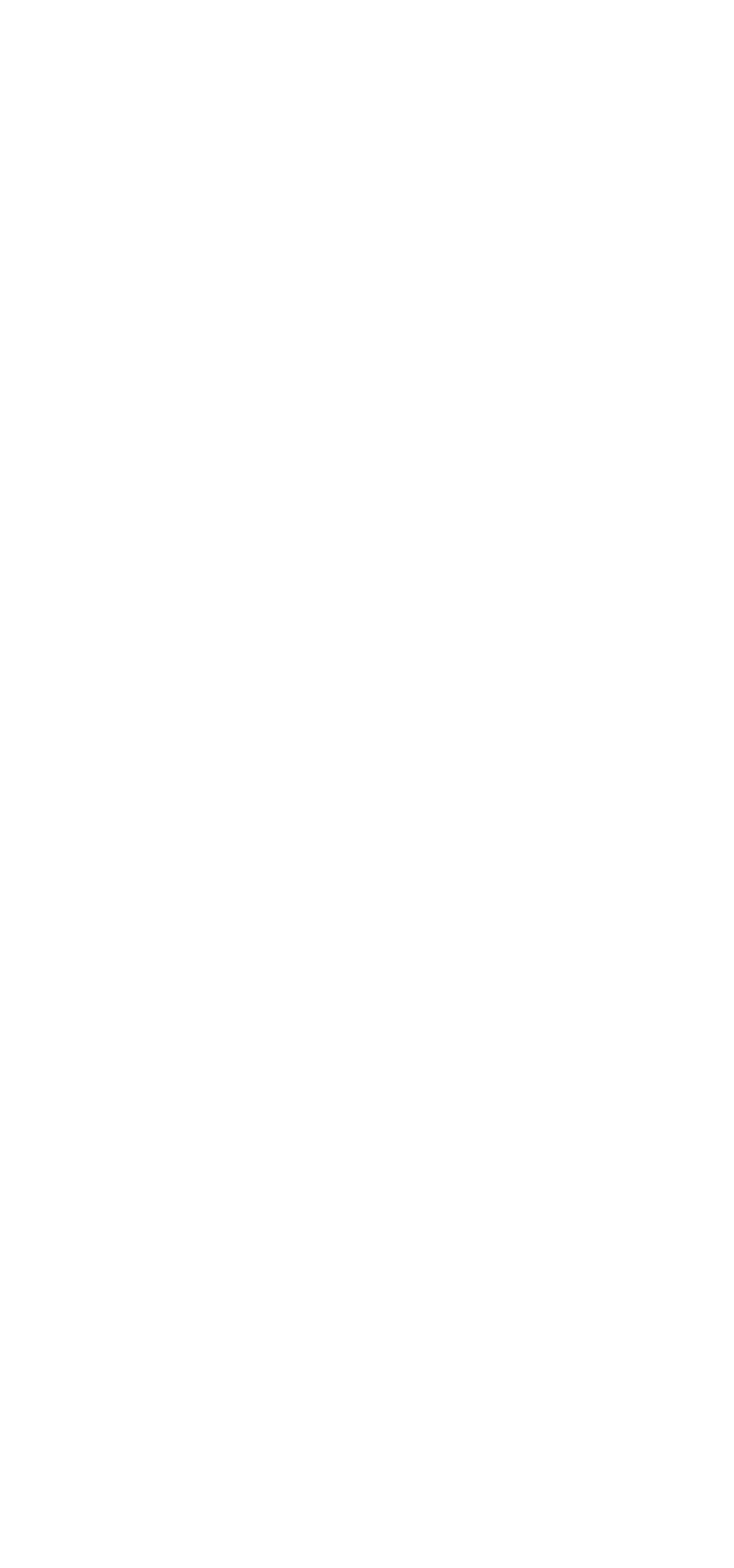
2.
I have chronic illness. For those who don’t know what chronic illness means, let me help: the word “chronic” comes from the Latin chronos, which means “of time” (think of “chronology”), and it specifically means “a lifetime.” So, a chronic illness is an illness that lasts a lifetime. In other words, it does not get better. There is no cure.
And think about the weight of time: yes, that means you feel it every day. On very rare occasions, I get caught in a moment, as if something’s plucked me out of the world, where I realize that I haven’t thought about my illnesses for a few minutes, maybe a few precious hours. These blissful moments of oblivion are the closest thing to a miracle that I know. When you have chronic illness, life is reduced to a relentless rationing of energy. It costs you to do anything: to get out of bed, to cook for yourself, to get dressed, to answer an email. For those without chronic illness, you can spend and spend without consequence: the cost is not a problem. For those of us with limited funds, we have to ration, we have a limited supply: we often run out before lunch.
I’ve come to think about chronic illness in other ways.
Ann Cvetkovich writes: “What if depression, in the Americas, at least, could be traced to histories of colonialism, genocide, slavery, legal exclusion, and everyday segregation and isolation that haunt all of our lives, rather than to be biochemical imbalances?” I’d like to change the word “depression” here to be all mental illnesses. Cvetkovich continues: “Most medical literature tends to presume a white and middle-class subject for whom feeling bad is frequently a mystery because it doesn’t fit a life in which privilege and comfort make things seem fine on the surface.” In other words, wellness as it is talked about in America today, is a white and wealthy idea.
Let me quote Starhawk, in the preface to the new edition of her 1982 book Dreaming the Dark: “Psychologists have constructed a myth – that somewhere there exists some state of health which is the norm, meaning that most people presumably are in that state, and those who are anxious, depressed, neurotic, distressed, or generally unhappy are deviant.” I’d here supplant the word “psychologists” with “white supremacy,” “doctors,” “your boss,” “neoliberalism,” “heteronormativity,” and “America.”
There has been a slew of writing in recent years about how “female” pain is treated – or rather, not treated as seriously as men’s in emergency rooms and clinics, by doctors, specialists, insurance companies, families, husbands, friends, the culture at large. In a recent article in The Atlantic, called “How Doctors Take Women’s Pain Less Seriously,” a husband writes about the experience of his wife Rachel’s long wait in the ER before receiving the medical attention her condition warranted (which was an ovarian torsion, where an ovarian cyst grows so large it falls, twisting the fallopian tube). “Nationwide, men wait an average of 49 minutes before receiving an analgesic for acute abdominal pain. Women wait an average of 65 minutes for the same thing. Rachel waited somewhere between 90 minutes and two hours,” he writes. At the end of the ordeal, Rachel had waited nearly fifteen hours before going into the surgery she should have received upon arrival. The article concludes with her physical scars healing, but that “she’s still grappling with the psychic toll – what she calls ‘the trauma of not being seen.’”
What the article does not mention is race – which leads me to believe that the writer and his wife are white. Whiteness is what allows for such oblivious neutrality: it is the premise of blankness, the presumption of the universal. (Studies have shown that white people will listen to other white people when talking about race, far more openly than they will to a person of color. As someone who is white-passing, let me address white people directly: look at my white face and listen up.)
The trauma of not being seen. Again – who is allowed in to the public sphere? Who is allowed to be visible? I don’t mean to diminish Rachel’s horrible experience – I myself once had to wait ten hours in an ER to be diagnosed with a burst ovarian cyst – I only wish to point out the presumptions upon which her horror relies: that our vulnerability should be seen and honored, and that we should all receive care, quickly and in a way that “respects the autonomy of the patient,” as the Four Principles of Biomedical Ethics puts it. Of course, these presumptions are what we all should have. But we must ask the question of who is allowed to have them. In whom does society substantiate such beliefs? And in whom does society enforce the opposite?
Compare Rachel’s experience at the hands of the medical establishment with that of Kam Brock’s. In September 2014, Brock, a 32-year-old black woman, born in Jamaica and living in New York City, was driving a BMW when she was pulled over by the police. They accused her of driving under the influence of marijuana, and though her behavior and their search of her car yielded nothing to support this, they nevertheless impounded her car. According to a lawsuit brought against the City of New York and Harlem Hospital by Brock, when Brock appeared the next day to retrieve her car she was arrested by the police for behaving in a way that she calls “emotional,” and involuntarily hospitalized in the Harlem Hospital psych ward. (As someone who has also been involuntarily hospitalized for behaving “too” emotionally, this story feels like a rip of recognition through my brain.) The doctors thought she was “delusional” and suffering from bipolar disorder, because she claimed that Obama followed her on twitter – which was true, but which the medical staff failed to confirm. She was then held for eight days, forcibly injected with sedatives, made to ingest psychiatric medication, attend group therapy, and stripped. The medical records of the hospital – obtained by her lawyers – bear this out: the “master treatment plan” for Brock’s stay reads, “Objective: Patient will verbalize the importance of education for employment and will state that Obama is not following her on Twitter.” It notes her “inability to test reality.” Upon her release, she was given a bill for $13,637.10.
The question of why the hospital’s doctors thought Brock “delusional” because of her Obama-follow claim is easily answered: Because, according to this society, a young black woman can’t possibly be that important – and for her to insist that she is must mean she’s “sick.”
I have chronic illness. For those who don’t know what chronic illness means, let me help: the word “chronic” comes from the Latin chronos, which means “of time” (think of “chronology”), and it specifically means “a lifetime.” So, a chronic illness is an illness that lasts a lifetime. In other words, it does not get better. There is no cure.
And think about the weight of time: yes, that means you feel it every day. On very rare occasions, I get caught in a moment, as if something’s plucked me out of the world, where I realize that I haven’t thought about my illnesses for a few minutes, maybe a few precious hours. These blissful moments of oblivion are the closest thing to a miracle that I know. When you have chronic illness, life is reduced to a relentless rationing of energy. It costs you to do anything: to get out of bed, to cook for yourself, to get dressed, to answer an email. For those without chronic illness, you can spend and spend without consequence: the cost is not a problem. For those of us with limited funds, we have to ration, we have a limited supply: we often run out before lunch.
I’ve come to think about chronic illness in other ways.
Ann Cvetkovich writes: “What if depression, in the Americas, at least, could be traced to histories of colonialism, genocide, slavery, legal exclusion, and everyday segregation and isolation that haunt all of our lives, rather than to be biochemical imbalances?” I’d like to change the word “depression” here to be all mental illnesses. Cvetkovich continues: “Most medical literature tends to presume a white and middle-class subject for whom feeling bad is frequently a mystery because it doesn’t fit a life in which privilege and comfort make things seem fine on the surface.” In other words, wellness as it is talked about in America today, is a white and wealthy idea.
Let me quote Starhawk, in the preface to the new edition of her 1982 book Dreaming the Dark: “Psychologists have constructed a myth – that somewhere there exists some state of health which is the norm, meaning that most people presumably are in that state, and those who are anxious, depressed, neurotic, distressed, or generally unhappy are deviant.” I’d here supplant the word “psychologists” with “white supremacy,” “doctors,” “your boss,” “neoliberalism,” “heteronormativity,” and “America.”
There has been a slew of writing in recent years about how “female” pain is treated – or rather, not treated as seriously as men’s in emergency rooms and clinics, by doctors, specialists, insurance companies, families, husbands, friends, the culture at large. In a recent article in The Atlantic, called “How Doctors Take Women’s Pain Less Seriously,” a husband writes about the experience of his wife Rachel’s long wait in the ER before receiving the medical attention her condition warranted (which was an ovarian torsion, where an ovarian cyst grows so large it falls, twisting the fallopian tube). “Nationwide, men wait an average of 49 minutes before receiving an analgesic for acute abdominal pain. Women wait an average of 65 minutes for the same thing. Rachel waited somewhere between 90 minutes and two hours,” he writes. At the end of the ordeal, Rachel had waited nearly fifteen hours before going into the surgery she should have received upon arrival. The article concludes with her physical scars healing, but that “she’s still grappling with the psychic toll – what she calls ‘the trauma of not being seen.’”
What the article does not mention is race – which leads me to believe that the writer and his wife are white. Whiteness is what allows for such oblivious neutrality: it is the premise of blankness, the presumption of the universal. (Studies have shown that white people will listen to other white people when talking about race, far more openly than they will to a person of color. As someone who is white-passing, let me address white people directly: look at my white face and listen up.)
The trauma of not being seen. Again – who is allowed in to the public sphere? Who is allowed to be visible? I don’t mean to diminish Rachel’s horrible experience – I myself once had to wait ten hours in an ER to be diagnosed with a burst ovarian cyst – I only wish to point out the presumptions upon which her horror relies: that our vulnerability should be seen and honored, and that we should all receive care, quickly and in a way that “respects the autonomy of the patient,” as the Four Principles of Biomedical Ethics puts it. Of course, these presumptions are what we all should have. But we must ask the question of who is allowed to have them. In whom does society substantiate such beliefs? And in whom does society enforce the opposite?
Compare Rachel’s experience at the hands of the medical establishment with that of Kam Brock’s. In September 2014, Brock, a 32-year-old black woman, born in Jamaica and living in New York City, was driving a BMW when she was pulled over by the police. They accused her of driving under the influence of marijuana, and though her behavior and their search of her car yielded nothing to support this, they nevertheless impounded her car. According to a lawsuit brought against the City of New York and Harlem Hospital by Brock, when Brock appeared the next day to retrieve her car she was arrested by the police for behaving in a way that she calls “emotional,” and involuntarily hospitalized in the Harlem Hospital psych ward. (As someone who has also been involuntarily hospitalized for behaving “too” emotionally, this story feels like a rip of recognition through my brain.) The doctors thought she was “delusional” and suffering from bipolar disorder, because she claimed that Obama followed her on twitter – which was true, but which the medical staff failed to confirm. She was then held for eight days, forcibly injected with sedatives, made to ingest psychiatric medication, attend group therapy, and stripped. The medical records of the hospital – obtained by her lawyers – bear this out: the “master treatment plan” for Brock’s stay reads, “Objective: Patient will verbalize the importance of education for employment and will state that Obama is not following her on Twitter.” It notes her “inability to test reality.” Upon her release, she was given a bill for $13,637.10.
The question of why the hospital’s doctors thought Brock “delusional” because of her Obama-follow claim is easily answered: Because, according to this society, a young black woman can’t possibly be that important – and for her to insist that she is must mean she’s “sick.”
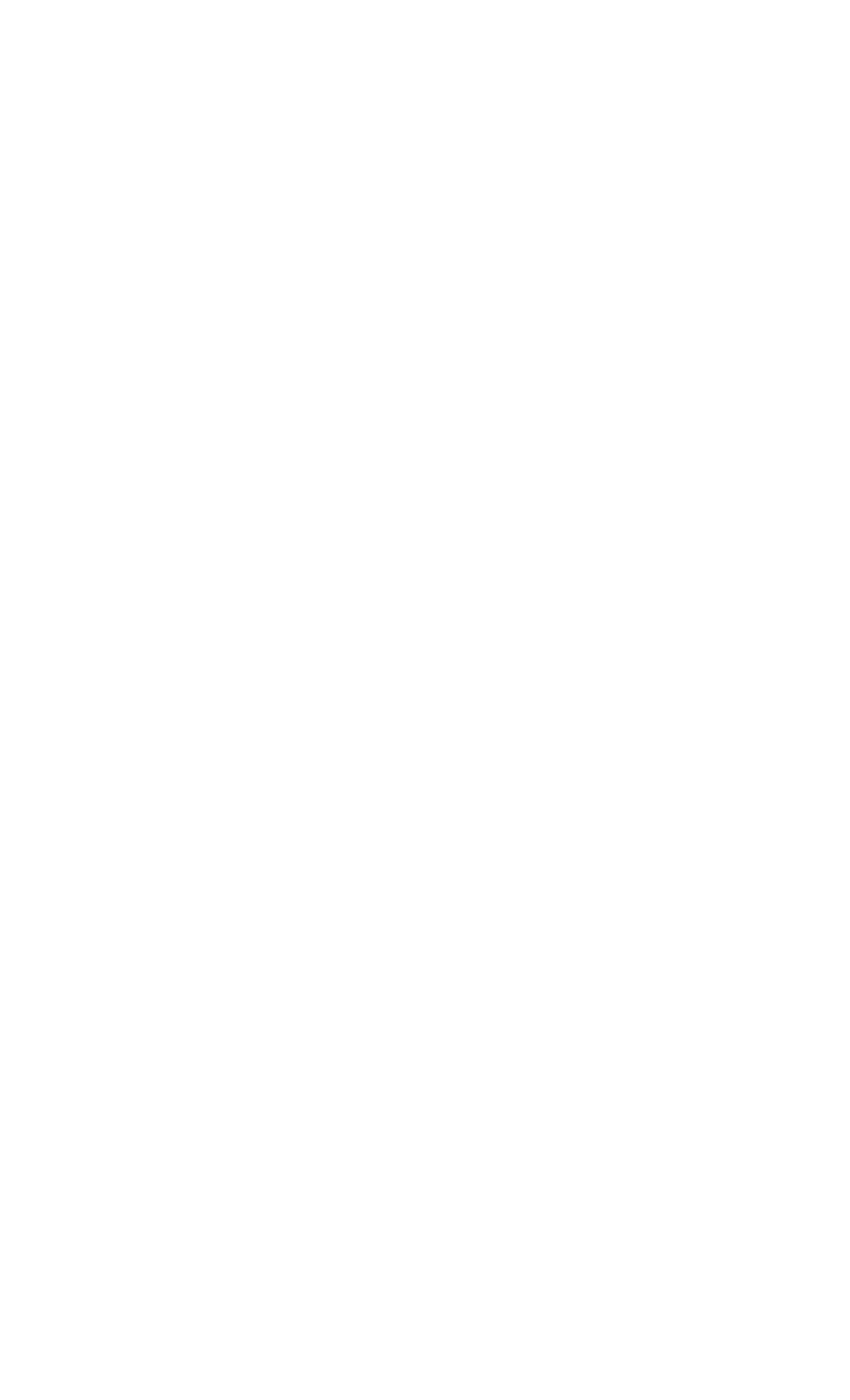
3.
Before I can speak of the “sick woman” in all of her many guises, I must first speak as an individual, and address you from my particular location.
I am antagonistic to the notion that the Western medical-insurance industrial complex understands me in my entirety, though they seem to think they do. They have attached many words to me over the years, and though some of these have provided articulation that was useful – after all, no matter how much we are working to change the world, we must still find ways of coping with the reality at hand – first I want to suggest some other ways of understanding my “illness.”
Perhaps it can all be explained by the fact that my Moon’s in Cancer in the 8th House, the House of Death, or that my Mars is in the 12th House, the House of Illness, Secrets, Sorrow, and Self-Undoing. Or, that my father’s mother escaped from North Korea in her childhood and hid this fact from the family until a few years ago, when she accidentally let it slip out, and then swiftly, revealingly, denied it. Or, that my mother suffers from undiagnosed mental illness that was actively denied by her family, and was then exasperated by a 40-year-long drug addiction, sexual trauma, and hepatitis from a dirty needle, and to this day remains untreated, as she makes her way in and out of jails, squats, and homelessness. Or, that I was physically and emotionally abused as a child, raised in an environment of poverty, addiction, and violence, and have been estranged from my parents for 13 years. Perhaps it’s because I’m poor – according to the IRS, in 2014, my adjusted gross income was $5,730 (a result of not being well enough to work full-time) – which means that my health insurance is provided by the state of California (Medi-Cal), that my “primary care doctor” is a group of physician’s assistants and nurses in a clinic on the second floor of a strip mall, and that I rely on food stamps to eat. Perhaps it can be encapsulated in the word “trauma.” Perhaps I’ve just got thin skin, and have had some bad luck.
It’s important that I also share the Western medical terminology that’s been attached to me – whether I like it or not, it can provide a common vocabulary: “This is the oppressor’s language,” Adrienne Rich wrote in 1971, “yet I need it to talk to you.” But let me offer another language, too. In the Native American Cree language, the possessive noun and verb of a sentence are structured differently than in English. In Cree, one does not say, “I am sick.” Instead, one says, “The sickness has come to me.” I love that and want to honor it.
So, here is what has come to me:
Endometriosis, which is a disease of the uterus where the uterine lining grows where it shouldn’t – in the pelvic area mostly, but also anywhere, the legs, abdomen, even the head. It causes chronic pain; gastrointestinal chaos; epic, monstrous bleeding; in some cases, cancer; and means that I have miscarried, can’t have children, and have several surgeries to look forward to. When I explained the disease to a friend who didn’t know about it, she exclaimed: “So your whole body is a uterus!” That’s one way of looking at it, yes. (Imagine what the Ancient Greek doctors – the fathers of the theory of the “wandering womb” – would say about that.) It means that every month, those rogue uterine cells that have implanted themselves throughout my body, “obey their nature and bleed,” to quote fellow endo warrior Hilary Mantel. This causes cysts, which eventually burst, leaving behind bundles of dead tissue like the debris of little bombs.
Bipolar disorder, panic disorder, and depersonalization disorder have also come to me. This means that I live between this world and another one, one created by my own brain that has ceased to be contained by a discrete concept of “self.” Because of these “disorders,” I have access to incredibly vivid emotions, flights of thought, and dreamscapes, to the feeling that my mind has been obliterated into stars, to the sensation that I have become nothingness, as well as to intense ecstasies, raptures, sorrows, and nightmarish hallucinations. I have been hospitalized, voluntarily and involuntarily, because of it, and one of the medications I was prescribed once nearly killed me – it produces a rare side effect where one’s skin falls off. Another cost $800 a month – I only took it because my doctor slipped me free samples. If I want to be able to hold a job – which this world has decided I ought to be able to do – I must take an anti-psychotic medication daily that causes short-term memory loss and drooling, among other sexy side effects. These visitors have also brought their friends: nervous breakdowns, mental collapses, or whatever you want to call them, three times in my life. I’m certain they will be guests in my house again. They have motivated attempts at suicide (most of them while dissociated) more than a dozen times, the first one when I was nine years old. That first attempt didn’t work, only because after taking a mouthful of sleeping pills, I somehow woke up the next day and went to school, like nothing had happened. I told no one about it, until my first psychiatric evaluation in my mid 20s.
Finally, an autoimmune disease that continues to baffle all the doctors I’ve seen, has come to me and refuses still to be named. As Carolyn Lazard has written about her experiences with autoimmune diseases: “Autoimmune disorders are difficult to diagnose. For ankylosing spondylitis, the average time between the onset of symptoms and diagnosis is eight to twelve years. I was lucky; I only had to wait one year.” Names like “MS,” “fibromyalgia,” and others that I can’t remember have fallen from the mouths of my doctors – but my insurance won’t cover the tests, nor is there a specialist in my insurance plan within one hundred miles of my home. I don’t have enough space here – will I ever? – to describe what living with an autoimmune disease is like. I can say it brings unimaginable fatigue, pain all over all the time, susceptibility to illnesses, a body that performs its “normal” functions monstrously abnormally. The worst symptom that mine brings is chronic shingles. For ten years I’ve gotten shingles in the same place on my back, so that I now have nerve damage there, which results in a ceaseless, searing pain on the skin and a dull, burning ache in the bones. Despite taking daily medication that is supposed to “suppress” the shingles virus, I still get them – they are my canaries in the coalmine, the harbingers of at least three weeks to be spent in bed.
My acupuncturist described it as a little demon steaming black smoke, frothing around, nestling into my bones.
Before I can speak of the “sick woman” in all of her many guises, I must first speak as an individual, and address you from my particular location.
I am antagonistic to the notion that the Western medical-insurance industrial complex understands me in my entirety, though they seem to think they do. They have attached many words to me over the years, and though some of these have provided articulation that was useful – after all, no matter how much we are working to change the world, we must still find ways of coping with the reality at hand – first I want to suggest some other ways of understanding my “illness.”
Perhaps it can all be explained by the fact that my Moon’s in Cancer in the 8th House, the House of Death, or that my Mars is in the 12th House, the House of Illness, Secrets, Sorrow, and Self-Undoing. Or, that my father’s mother escaped from North Korea in her childhood and hid this fact from the family until a few years ago, when she accidentally let it slip out, and then swiftly, revealingly, denied it. Or, that my mother suffers from undiagnosed mental illness that was actively denied by her family, and was then exasperated by a 40-year-long drug addiction, sexual trauma, and hepatitis from a dirty needle, and to this day remains untreated, as she makes her way in and out of jails, squats, and homelessness. Or, that I was physically and emotionally abused as a child, raised in an environment of poverty, addiction, and violence, and have been estranged from my parents for 13 years. Perhaps it’s because I’m poor – according to the IRS, in 2014, my adjusted gross income was $5,730 (a result of not being well enough to work full-time) – which means that my health insurance is provided by the state of California (Medi-Cal), that my “primary care doctor” is a group of physician’s assistants and nurses in a clinic on the second floor of a strip mall, and that I rely on food stamps to eat. Perhaps it can be encapsulated in the word “trauma.” Perhaps I’ve just got thin skin, and have had some bad luck.
It’s important that I also share the Western medical terminology that’s been attached to me – whether I like it or not, it can provide a common vocabulary: “This is the oppressor’s language,” Adrienne Rich wrote in 1971, “yet I need it to talk to you.” But let me offer another language, too. In the Native American Cree language, the possessive noun and verb of a sentence are structured differently than in English. In Cree, one does not say, “I am sick.” Instead, one says, “The sickness has come to me.” I love that and want to honor it.
So, here is what has come to me:
Endometriosis, which is a disease of the uterus where the uterine lining grows where it shouldn’t – in the pelvic area mostly, but also anywhere, the legs, abdomen, even the head. It causes chronic pain; gastrointestinal chaos; epic, monstrous bleeding; in some cases, cancer; and means that I have miscarried, can’t have children, and have several surgeries to look forward to. When I explained the disease to a friend who didn’t know about it, she exclaimed: “So your whole body is a uterus!” That’s one way of looking at it, yes. (Imagine what the Ancient Greek doctors – the fathers of the theory of the “wandering womb” – would say about that.) It means that every month, those rogue uterine cells that have implanted themselves throughout my body, “obey their nature and bleed,” to quote fellow endo warrior Hilary Mantel. This causes cysts, which eventually burst, leaving behind bundles of dead tissue like the debris of little bombs.
Bipolar disorder, panic disorder, and depersonalization disorder have also come to me. This means that I live between this world and another one, one created by my own brain that has ceased to be contained by a discrete concept of “self.” Because of these “disorders,” I have access to incredibly vivid emotions, flights of thought, and dreamscapes, to the feeling that my mind has been obliterated into stars, to the sensation that I have become nothingness, as well as to intense ecstasies, raptures, sorrows, and nightmarish hallucinations. I have been hospitalized, voluntarily and involuntarily, because of it, and one of the medications I was prescribed once nearly killed me – it produces a rare side effect where one’s skin falls off. Another cost $800 a month – I only took it because my doctor slipped me free samples. If I want to be able to hold a job – which this world has decided I ought to be able to do – I must take an anti-psychotic medication daily that causes short-term memory loss and drooling, among other sexy side effects. These visitors have also brought their friends: nervous breakdowns, mental collapses, or whatever you want to call them, three times in my life. I’m certain they will be guests in my house again. They have motivated attempts at suicide (most of them while dissociated) more than a dozen times, the first one when I was nine years old. That first attempt didn’t work, only because after taking a mouthful of sleeping pills, I somehow woke up the next day and went to school, like nothing had happened. I told no one about it, until my first psychiatric evaluation in my mid 20s.
Finally, an autoimmune disease that continues to baffle all the doctors I’ve seen, has come to me and refuses still to be named. As Carolyn Lazard has written about her experiences with autoimmune diseases: “Autoimmune disorders are difficult to diagnose. For ankylosing spondylitis, the average time between the onset of symptoms and diagnosis is eight to twelve years. I was lucky; I only had to wait one year.” Names like “MS,” “fibromyalgia,” and others that I can’t remember have fallen from the mouths of my doctors – but my insurance won’t cover the tests, nor is there a specialist in my insurance plan within one hundred miles of my home. I don’t have enough space here – will I ever? – to describe what living with an autoimmune disease is like. I can say it brings unimaginable fatigue, pain all over all the time, susceptibility to illnesses, a body that performs its “normal” functions monstrously abnormally. The worst symptom that mine brings is chronic shingles. For ten years I’ve gotten shingles in the same place on my back, so that I now have nerve damage there, which results in a ceaseless, searing pain on the skin and a dull, burning ache in the bones. Despite taking daily medication that is supposed to “suppress” the shingles virus, I still get them – they are my canaries in the coalmine, the harbingers of at least three weeks to be spent in bed.
My acupuncturist described it as a little demon steaming black smoke, frothing around, nestling into my bones.
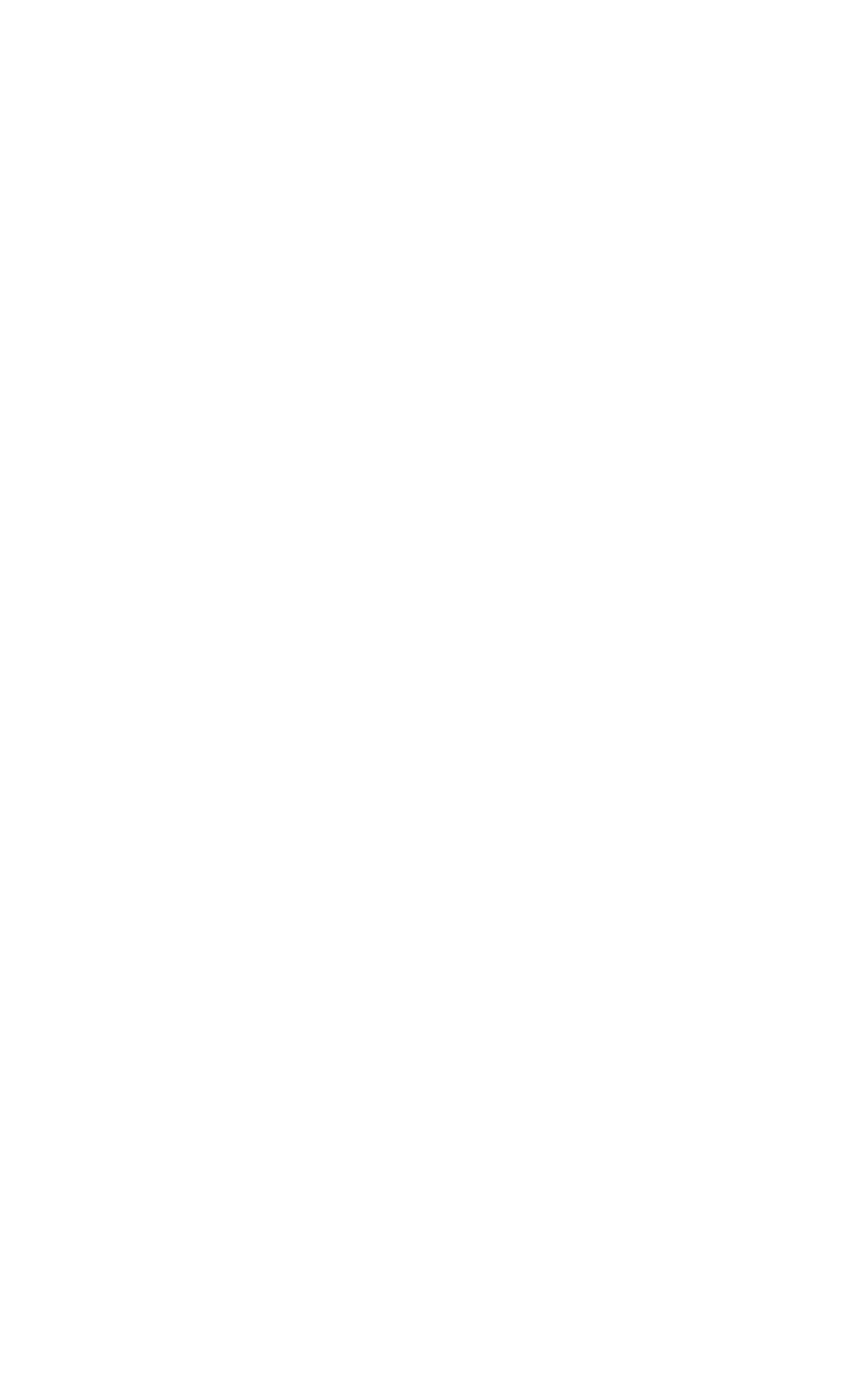
4.
With all of these visitors, I started writing Sick Woman Theory as a way to survive in a reality that I find unbearable, and as a way to bear witness to a self that does not feel like it can possibly be “mine.”
The early instigation for the project of “Sick Woman Theory,” and how it inherited its name, came from a few sources. One was in response to Audrey Wollen’s “Sad Girl Theory,” which proposes a way of redefining historically feminized pathologies into modes of political protest for girls: I was mainly concerned with the question of what happens to the sad girl when, if, she grows up. Another was incited by reading Kate Zambreno’s fantastic Heroines, and feeling an itch to fuck with the concept of “heroism” at all, and so I wanted to propose a figure with traditionally anti-heroic qualities – namely illness, idleness, and inaction – as capable of being the symbol of a grand Theory. Another was from the 1973 feminist book Complaints and Disorders, which differentiates between the “sick woman” of the white upper class, and the “sickening women” of the non-white working class.
Sick Woman Theory is for those who are faced with their vulnerability and unbearable fragility, every day, and so have to fight for their experience to be not only honored, but first made visible. For those who, in Audre Lorde’s words, were never meant to survive: because this world was built against their survival. It’s for my fellow spoonies. You know who you are, even if you’ve not been attached to a diagnosis: one of the aims of Sick Woman Theory is to resist the notion that one needs to be legitimated by an institution, so that they can try to fix you. You don’t need to be fixed, my queens – it’s the world that needs the fixing.
I offer this as a call to arms and a testimony of recognition. I hope that my thoughts can provide articulation and resonance, as well as tools of survival and resilience.
And for those of you who are not chronically ill or disabled, Sick Woman Theory asks you to stretch your empathy this way. To face us, to listen, to see.
With all of these visitors, I started writing Sick Woman Theory as a way to survive in a reality that I find unbearable, and as a way to bear witness to a self that does not feel like it can possibly be “mine.”
The early instigation for the project of “Sick Woman Theory,” and how it inherited its name, came from a few sources. One was in response to Audrey Wollen’s “Sad Girl Theory,” which proposes a way of redefining historically feminized pathologies into modes of political protest for girls: I was mainly concerned with the question of what happens to the sad girl when, if, she grows up. Another was incited by reading Kate Zambreno’s fantastic Heroines, and feeling an itch to fuck with the concept of “heroism” at all, and so I wanted to propose a figure with traditionally anti-heroic qualities – namely illness, idleness, and inaction – as capable of being the symbol of a grand Theory. Another was from the 1973 feminist book Complaints and Disorders, which differentiates between the “sick woman” of the white upper class, and the “sickening women” of the non-white working class.
Sick Woman Theory is for those who are faced with their vulnerability and unbearable fragility, every day, and so have to fight for their experience to be not only honored, but first made visible. For those who, in Audre Lorde’s words, were never meant to survive: because this world was built against their survival. It’s for my fellow spoonies. You know who you are, even if you’ve not been attached to a diagnosis: one of the aims of Sick Woman Theory is to resist the notion that one needs to be legitimated by an institution, so that they can try to fix you. You don’t need to be fixed, my queens – it’s the world that needs the fixing.
I offer this as a call to arms and a testimony of recognition. I hope that my thoughts can provide articulation and resonance, as well as tools of survival and resilience.
And for those of you who are not chronically ill or disabled, Sick Woman Theory asks you to stretch your empathy this way. To face us, to listen, to see.

5.
Sick Woman Theory is an insistence that most modes of political protest are internalized, lived, embodied, suffering, and no doubt invisible. Sick Woman Theory redefines existence in a body as something that is primarily and always vulnerable, following from Judith Butler’s work on precarity and resistance. Because the premise insists that a body is defined by its vulnerability, not temporarily affected by it, the implication is that it is continuously reliant on infrastructures of support in order to endure, and so we need to re-shape the world around this fact. Sick Woman Theory maintains that the body and mind are sensitive and reactive to regimes of oppression – particularly our current regime of neoliberal, white-supremacist, imperial-capitalist, cis-hetero-patriarchy. It is that all of our bodies and minds carry the historical trauma of this, that it is the world itself that is making and keeping us sick.
To take the term “woman” as the subject-position of this work is a strategic, all-encompassing embrace and dedication to the particular, rather than the universal. Though the identity of “woman” has erased and excluded many (especially women of color and trans and genderfluid people), I choose to use it because it still represents the un-cared for, the secondary, the oppressed, the non-, the un-, the less-than. The problematics of this term will always require critique, and I hope that Sick Woman Theory can help undo those in its own way. But more than anything, I’m inspired to use the word “woman” because I saw this year how it can still be radical to be a woman in the 21st century. I use it to honor a dear friend of mine who came out as genderfluid last year. For her, what mattered the most was to be able to call herself a “woman,” to use the pronouns “she/her.” She didn’t want surgery or hormones; she loved her body and her big dick and didn’t want to change it – she only wanted the word. That the word itself can be an empowerment is the spirit in which Sick Woman Theory is named.
The Sick Woman is an identity and body that can belong to anyone denied the privileged existence – or the cruelly optimistic promise of such an existence – of the white, straight, healthy, neurotypical, upper and middle-class, cis- and able-bodied man who makes his home in a wealthy country, has never not had health insurance, and whose importance to society is everywhere recognized and made explicit by that society; whose importance and care dominates that society, at the expense of everyone else.
The Sick Woman is anyone who does not have this guarantee of care.
The Sick Woman is told that, to this society, her care, even her survival, does not matter.
The Sick Woman is all of the “dysfunctional,” “dangerous” and “in danger,” “badly behaved,” “crazy,” “incurable,” “traumatized,” “disordered,” “diseased,” “chronic,” “uninsurable,” “wretched,” “undesirable” and altogether “dysfunctional” bodies belonging to women, people of color, poor, ill, neuro-atypical, differently abled, queer, trans, and genderfluid people, who have been historically pathologized, hospitalized, institutionalized, brutalized, rendered “unmanageable,” and therefore made culturally illegitimate and politically invisible.
The Sick Woman is a black trans woman having panic attacks while using a public restroom, in fear of the violence awaiting her.
The Sick Woman is the child of parents whose indigenous histories have been erased, who suffers from the trauma of generations of colonization and violence.
The Sick Woman is a homeless person, especially one with any kind of disease and no access to treatment, and whose only access to mental-health care is a 72-hour hold in the county hospital.
The Sick Woman is a mentally ill black woman whose family called the police for help because she was suffering an episode, and who was murdered in police custody, and whose story was denied by everyone operating under white supremacy. Her name is Tanesha Anderson.
The Sick Woman is a 50-year-old gay man who was raped as a teenager and has remained silent and shamed, believing that men can’t be raped.
The Sick Woman is a disabled person who couldn’t go to the lecture on disability rights because it was held in a venue without accessibility.
The Sick Woman is a white woman with chronic illness rooted in sexual trauma who must take painkillers in order to get out of bed.
The Sick Woman is a straight man with depression who’s been medicated (managed) since early adolescence and now struggles to work the 60 hours per week that his job demands.
The Sick Woman is someone diagnosed with a chronic illness, whose family and friends continually tell them they should exercise more.
The Sick Woman is a queer woman of color whose activism, intellect, rage, and depression are seen by white society as unlikeable attributes of her personality.
The Sick Woman is a black man killed in police custody, and officially said to have severed his own spine. His name is Freddie Gray.
The Sick Woman is a veteran suffering from PTSD on the months-long waiting list to see a doctor at the VA.
The Sick Woman is a single mother, illegally emigrated to the “land of the free,” shuffling between three jobs in order to feed her family, and finding it harder and harder to breathe.
The Sick Woman is the refugee.
The Sick Woman is the abused child.
The Sick Woman is the person with autism whom the world is trying to “cure.”
The Sick Woman is the starving.
The Sick Woman is the dying.
And, crucially: The Sick Woman is who capitalism needs to perpetuate itself.
Why?
Because to stay alive, capitalism cannot be responsible for our care – its logic of exploitation requires that some of us die.
“Sickness” as we speak of it today is a capitalist construct, as is its perceived binary opposite, “wellness.” The “well” person is the person well enough to go to work. The “sick” person is the one who can’t. What is so destructive about conceiving of wellness as the default, as the standard mode of existence, is that it invents illness as temporary. When being sick is an abhorrence to the norm, it allows us to conceive of care and support in the same way.
Care, in this configuration, is only required sometimes. When sickness is temporary, care is not normal.
Here’s an exercise: go to the mirror, look yourself in the face, and say out loud: “To take care of you is not normal. I can only do it temporarily.”
Saying this to yourself will merely be an echo of what the world repeats all the time.
Sick Woman Theory is an insistence that most modes of political protest are internalized, lived, embodied, suffering, and no doubt invisible. Sick Woman Theory redefines existence in a body as something that is primarily and always vulnerable, following from Judith Butler’s work on precarity and resistance. Because the premise insists that a body is defined by its vulnerability, not temporarily affected by it, the implication is that it is continuously reliant on infrastructures of support in order to endure, and so we need to re-shape the world around this fact. Sick Woman Theory maintains that the body and mind are sensitive and reactive to regimes of oppression – particularly our current regime of neoliberal, white-supremacist, imperial-capitalist, cis-hetero-patriarchy. It is that all of our bodies and minds carry the historical trauma of this, that it is the world itself that is making and keeping us sick.
To take the term “woman” as the subject-position of this work is a strategic, all-encompassing embrace and dedication to the particular, rather than the universal. Though the identity of “woman” has erased and excluded many (especially women of color and trans and genderfluid people), I choose to use it because it still represents the un-cared for, the secondary, the oppressed, the non-, the un-, the less-than. The problematics of this term will always require critique, and I hope that Sick Woman Theory can help undo those in its own way. But more than anything, I’m inspired to use the word “woman” because I saw this year how it can still be radical to be a woman in the 21st century. I use it to honor a dear friend of mine who came out as genderfluid last year. For her, what mattered the most was to be able to call herself a “woman,” to use the pronouns “she/her.” She didn’t want surgery or hormones; she loved her body and her big dick and didn’t want to change it – she only wanted the word. That the word itself can be an empowerment is the spirit in which Sick Woman Theory is named.
The Sick Woman is an identity and body that can belong to anyone denied the privileged existence – or the cruelly optimistic promise of such an existence – of the white, straight, healthy, neurotypical, upper and middle-class, cis- and able-bodied man who makes his home in a wealthy country, has never not had health insurance, and whose importance to society is everywhere recognized and made explicit by that society; whose importance and care dominates that society, at the expense of everyone else.
The Sick Woman is anyone who does not have this guarantee of care.
The Sick Woman is told that, to this society, her care, even her survival, does not matter.
The Sick Woman is all of the “dysfunctional,” “dangerous” and “in danger,” “badly behaved,” “crazy,” “incurable,” “traumatized,” “disordered,” “diseased,” “chronic,” “uninsurable,” “wretched,” “undesirable” and altogether “dysfunctional” bodies belonging to women, people of color, poor, ill, neuro-atypical, differently abled, queer, trans, and genderfluid people, who have been historically pathologized, hospitalized, institutionalized, brutalized, rendered “unmanageable,” and therefore made culturally illegitimate and politically invisible.
The Sick Woman is a black trans woman having panic attacks while using a public restroom, in fear of the violence awaiting her.
The Sick Woman is the child of parents whose indigenous histories have been erased, who suffers from the trauma of generations of colonization and violence.
The Sick Woman is a homeless person, especially one with any kind of disease and no access to treatment, and whose only access to mental-health care is a 72-hour hold in the county hospital.
The Sick Woman is a mentally ill black woman whose family called the police for help because she was suffering an episode, and who was murdered in police custody, and whose story was denied by everyone operating under white supremacy. Her name is Tanesha Anderson.
The Sick Woman is a 50-year-old gay man who was raped as a teenager and has remained silent and shamed, believing that men can’t be raped.
The Sick Woman is a disabled person who couldn’t go to the lecture on disability rights because it was held in a venue without accessibility.
The Sick Woman is a white woman with chronic illness rooted in sexual trauma who must take painkillers in order to get out of bed.
The Sick Woman is a straight man with depression who’s been medicated (managed) since early adolescence and now struggles to work the 60 hours per week that his job demands.
The Sick Woman is someone diagnosed with a chronic illness, whose family and friends continually tell them they should exercise more.
The Sick Woman is a queer woman of color whose activism, intellect, rage, and depression are seen by white society as unlikeable attributes of her personality.
The Sick Woman is a black man killed in police custody, and officially said to have severed his own spine. His name is Freddie Gray.
The Sick Woman is a veteran suffering from PTSD on the months-long waiting list to see a doctor at the VA.
The Sick Woman is a single mother, illegally emigrated to the “land of the free,” shuffling between three jobs in order to feed her family, and finding it harder and harder to breathe.
The Sick Woman is the refugee.
The Sick Woman is the abused child.
The Sick Woman is the person with autism whom the world is trying to “cure.”
The Sick Woman is the starving.
The Sick Woman is the dying.
And, crucially: The Sick Woman is who capitalism needs to perpetuate itself.
Why?
Because to stay alive, capitalism cannot be responsible for our care – its logic of exploitation requires that some of us die.
“Sickness” as we speak of it today is a capitalist construct, as is its perceived binary opposite, “wellness.” The “well” person is the person well enough to go to work. The “sick” person is the one who can’t. What is so destructive about conceiving of wellness as the default, as the standard mode of existence, is that it invents illness as temporary. When being sick is an abhorrence to the norm, it allows us to conceive of care and support in the same way.
Care, in this configuration, is only required sometimes. When sickness is temporary, care is not normal.
Here’s an exercise: go to the mirror, look yourself in the face, and say out loud: “To take care of you is not normal. I can only do it temporarily.”
Saying this to yourself will merely be an echo of what the world repeats all the time.
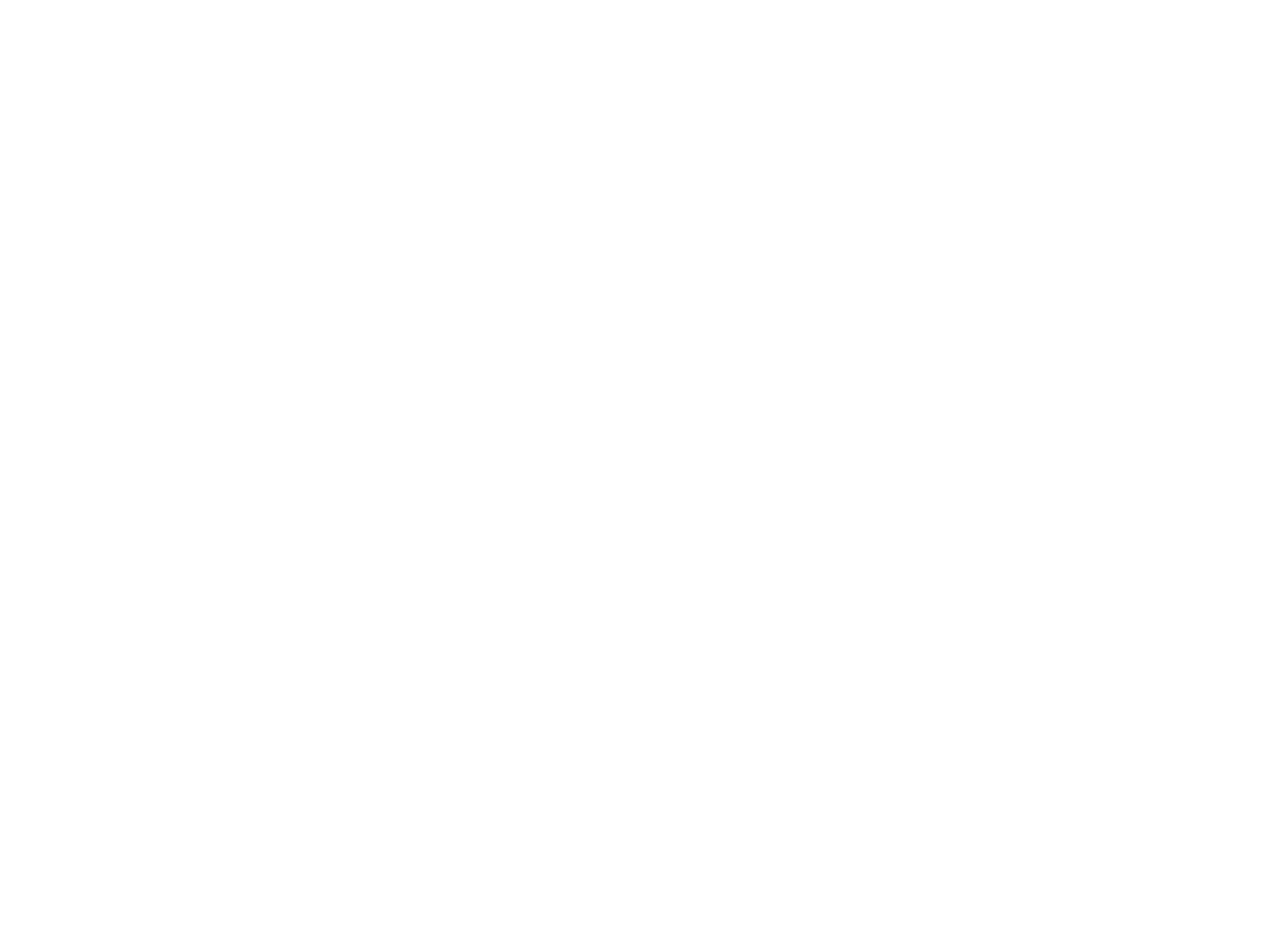
6.
I used to think that the most anti-capitalist gestures left had to do with love, particularly love poetry: to write a love poem and give it to the one you desired, seemed to me a radical resistance. But now I see I was wrong.
The most anti-capitalist protest is to care for another and to care for yourself. To take on the historically feminized and therefore invisible practice of nursing, nurturing, caring. To take seriously each other’s vulnerability and fragility and precarity, and to support it, honor it, empower it. To protect each other, to enact and practice community. A radical kinship, an interdependent sociality, a politics of care.
Because, once we are all ill and confined to the bed, sharing our stories of therapies and comforts, forming support groups, bearing witness to each other’s tales of trauma, prioritizing the care and love of our sick, pained, expensive, sensitive, fantastic bodies, and there is no one left to go to work, perhaps then, finally, capitalism will screech to its much-needed, long-overdue, and motherfucking glorious halt.
I used to think that the most anti-capitalist gestures left had to do with love, particularly love poetry: to write a love poem and give it to the one you desired, seemed to me a radical resistance. But now I see I was wrong.
The most anti-capitalist protest is to care for another and to care for yourself. To take on the historically feminized and therefore invisible practice of nursing, nurturing, caring. To take seriously each other’s vulnerability and fragility and precarity, and to support it, honor it, empower it. To protect each other, to enact and practice community. A radical kinship, an interdependent sociality, a politics of care.
Because, once we are all ill and confined to the bed, sharing our stories of therapies and comforts, forming support groups, bearing witness to each other’s tales of trauma, prioritizing the care and love of our sick, pained, expensive, sensitive, fantastic bodies, and there is no one left to go to work, perhaps then, finally, capitalism will screech to its much-needed, long-overdue, and motherfucking glorious halt.
This text is adapted from the lecture, “My Body Is a Prison of Pain so I Want to Leave It Like a Mystic But I Also Love It & Want It to Matter Politically,” delivered at Human Resources, sponsored by the Women’s Center for Creative Work, in Los Angeles, on October 7, 2015. The video is here.
Nadya Sayapina (born 1989, Minsk, Belarus) - artist, author of projects, art tutor. Artistic methods include performance, multimedia, installations, land art, painting, text. Explores mediation in art through the prism of performative practices and processuality, addresses the themes of corporeality, self-reflection, memory, and the feminist agenda. Participates in projects and residences in Belarus and abroad. Website: http://cargocollective.com/NadyaSayapina. Email: artistgsna@gmail.com